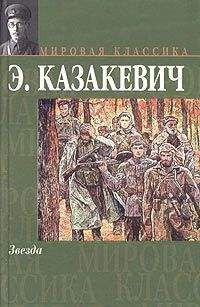Сергей Кольцов - Тихая разведка
Поляна неплохо просматривалась и невооруженным глазом, но линзы приближали дальние подступы и пространство между кучно стоявшими деревьями. Ничего настораживающего внимания не было. Небольшой железнодорожный состав, груженный крупно распиленными досками, подрагивая последней платформой, исчез за поворотом; второй миновал входную стрелку и медленно пятился по запасным путям к лесопильному заводику; третий стоял под парами у деревянной эстакады под погрузкой. Платформы грузили круглым лесом-тонкомером в огороженной колючей проволокой зоне, по углам которой стояли решетчатые вышки с пулеметами. Глухую тишину сек противный визг пилорамы. Там, суетливо подталкиваемые резкими гортанными выкриками, копошились пленные под охраной эсэсовцев. Центр поляны и ее оконечность, кроме южной, были безлюдны. Натянутая над ней маскировочная сеть, отбрасывая на землю квадратные, узорчатые тени, создавала иллюзию общего лесного массива.
— Пожалуй, самое время ретироваться, елки точеные! — пряча бинокль в складках куртки, сказал Двуреченский и, неторопливо, словно прогуливаясь, вошел в низкорослый редковатый ельник. Трое разведчиков пересекли дорогу. Здесь уже шел густой, нетронутый и необозримый во все стороны лес, сливающийся дымчатой каемкой с линией горизонта. Подошвы обуви, касаясь поверхности земли, мягко пружинили на толстой подушке зеленеющего мха, разнотравья и опавших листьев, поглощая шум шагов.
Чьи-то голоса первым услышал следующий вслед за старшиной Иван Щегольков. Разведчики залегли, вжимаясь в податливый мох и настил листьев. Затем по-пластунски стали передвигаться вперед, на звук русской речи.
— Это власовцы! Идут они чуть впереди нас, по тропе через ельник, в северном направлении. Их пятеро, а может, трое, — прошептал Щегольков, поворачивая голову к Двуреченскому и Юлаеву. — Укоротить бы им языки… Я бы этим жабам…
— Чтобы хорошо рассмотреть этих вояк, еще чуть вперед. И — ша… Замереть, никакой самодеятельности!
Первым показался на тропе коренастый, пышноволосый власовец. Забавно смотрелась на его покатом лбу косая челочка черных волос, придававшая ему несколько легкомысленный вид… Светло-коричневые глаза его равнодушно смотрели вокруг. Во всех движениях чувствовались бравада и уверенность. Пухлые розовеющие щеки и оттопыренная нижняя губа, что называется, греческий профиль, весь его собранный, опрятный вид вызывали у Егора Двуреченского еще не вполне осознанную ассоциацию, будоражащую память. Он смотрел на этого человека пристально, словно прожигая его насквозь сузившимися глазами, и не мог поверить самому себе, что видит знакомое лицо. Навязчивое видение привело его в оцепенение. Он, не веря своим глазам, мысленно чертыхнулся и закрыл их на мгновение. Но образ увиденного им человека еще четче вырисовывался в памяти. Поравнявшийся с засадой разведчиков парень, шедший во главе группы из трех власовцев, вооруженных советскими пистолетами-пулеметами Шпагина, пожалуй, не был двойником того, кого он знал давно, еще с детства. Двуреченский не замечал, не видел тех троих, которые шагали в цепочке за первым. Эти солдаты предателя генерала Власова, изменники, по которым давно плакала петля, сами по себе не представляли для него ни малейшего интереса. По существу, они не входили в его сознание и являлись как бы незначительными деталями картины, развернувшейся в пространстве. Не доверяя своей интуиции и застыв в напряжении, он ждал, еще не понимая чего именно, но уже уверенный в том, что один присущий только этому человеку штрих рассеет его сомнения.
На плечах этого власовца топорщились погоны немецкого рядового без знаков различия. Скорее всего, он выполнял обязанности разводящего караульной смены. Вся группа власовцев поравнялось с засадой разведчиков, и тут первый обратился к сзади идущему:
— Чесноков! Вы отстоите сегодня две смены подряд. Восемь часов. Имеется распоряжение взводного. Начкар должен был бы поставить вас в известность. На ночные часы недостает людей. К тому же за вами числится должок. Понятно объясняю?
И только сейчас Двуреченский сообразил, что ждал только этого. Ждал, чтобы он заговорил, и по тому, как тот произносил фразы, мямля каждое слово, словно насильно выталкивая их языком изо рта, сомнений больше не было. Этот человек был не кем иным, как другом детства и юности, жившим в соседнем дворе, на одной улице, бесконечно тянувшейся вдоль железнодорожного полотна, — Григорием Сукниным, Галушкой.
Егор Двуреченский расстался с ним в тяжелом и сложном сорок первом, будучи на год старше Сукнина. Двадцать четвертому году призыва еще не было, но Григорий вместе с ним целый день провел в военкомате. Он сумел не отстать в потоке провожающих до самого вокзала. И здесь, когда, мобилизованные уже сидели в товарных вагонах, Григорий разрыдался. Да и у самого Егора першило в глубине горла, когда он бросал частые взгляды в сторону толпы, где стояли отец и мать. Маленький братик Василек беспрестанно размахивал сжатым кулачком и что-то кричал Егору, но гомон голосов, всхлипывания, плач женщин топили его тонкий детский голосок, и он не слышал, что братишка повторял одни и те же слова: «Егорка! Миленький! Возвращайся скорее… Я жду тебя, Егорка…» Мать — тоненькая и сухонькая — почти не плакала. Только отец, сутулясь, невзрачный, горбатенький и какой-то жалкий, не говоря ни слова, молча смотрел на сына и не стыдился горючих слез, обильно капающих на его праздничный костюм. Разве мог тогда даже предположить Егор о том, что произойдет такая встреча с Григорием Сукниным, носящим сейчас на левом рукаве маскировочного костюма шеврон с крупными красными буквами «РОА» на фоне белого треугольника.
«Лучше бы ты был убит, Галушка», — неожиданно для себя, чуть ли не в голос, вспомнив уличное прозвище Сукнина, едва не выпалил Егор Двуреченский. Григорий, ведя группу, при этом, как под гипнозом, вдруг споткнулся, зацепившись носком за мохнатую кочку, и едва не растянулся по тропе.
— Конь, споткнувшийся на ровном месте, — плохая примета, — со смешком заметил замыкающий власовец. — Что-то тебя ждет, отделенный…
— Что было — то видели. Что будет — увидим! Тебя на тризну не пригласят, Сычов, — нервозно парировал Сукнин. — Предстоит снова драпать, все признаки налицо. — И внезапно меняя тон, начальственно проговорил — В строю не болтать! Наряд вне очереди захотел, Сыч! Так он у тебя уже имеется.
Еще неясная, не совсем оформившаяся в сознании Егора Двуреченского мысль постепенно переросла в окончательное решение: он не уйдет отсюда, пока лицом к лицу не встретится с Сукниным. Это должно, по его расчетам, случится очень скоро и будет не ради любопытства и прошлых воспоминаний. Что произойдет позже, старшина знал и в то же время мучительно страдал от того, что изменить ничего нельзя. Отнять жизнь у человека, в жилах которого, подобно ему, текла кровь русского, с которым он провел лучшие годы — годы детства и юности, было не одно и то же, что послать пулю во вражеского солдата. Непростым и в чем-то даже противоестественным по своей сути представлялся суровый приговор, который именно ему в силу обстоятельств надлежит привести в исполнение. И в силу этих же самых обстоятельств, если не произойдет прямого столкновения, разведчикам придется подумать, как убрать власовских солдат, чтобы не выдать своего присутствия. Все шло к тому, что опять не получался тихим, без следов, их опасный рейд.
Двуреченский не мог найти какое-либо оправдание поступку, совершенному его бывшим товарищем. Попасть в лапы к врагу можно по разным причинам. Война без пленных не бывает. Но почему ты поднял оружие против своих, запятнав этим честь гражданина и воина, предав свой народ? И если тебе Родина доверила в тяжкий для нее час оружие, крепко держи его в руках и не выпускай до самого своего смертного часа. Юлаев, Щегольков, Черемушкин и все остальные… Старшина не сомневался в твердости их духа, знал, что они не пожалеют своей жизни ради святого дела и отдадут ее только тогда, когда враг заплатит за это дорогой ценой. Вот почему встреча с Сукниным стала для него отголоском несчастья, вызвала кричащую боль в его сердце за преступную трусость бывшего товарища, павшего в его глазах, предавшего святыню из святынь — верность народу.
Щегольков и Юлаев заметили, как встревожилось, побледнело лицо старшины. Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Наконец Двуреченский шевельнулся и сказал своим обычным голосом:
— Сейчас с минуты на минуту пройдет караульная смена власовцев. Не возражаю, если тихо — всех до одного. — И он сделал жест ладонью сверху вниз. — Не трогайте только одного — пышноволосого, с челочкой. Мне очень хотелось бы с ним погутарить.
Но все произошло совсем не так, как запланировал старшина. Послышался шелест шагов. Отрываясь от земли, Юлаев и Щегольков приготовились к прыжку, зажимая в ладонях финские ножи. Сквозь листву кустарника были видны фигуры равняющихся с ними власовцев. Но среди них Григория Сукнина не оказалось. Задерживался ли он, или были на то иные причины — для разведчиков оставалось загадкой. И Двуреченский молча покачал головой: не трогать! Не подозревая о смертельной опасности, власовцы не спеша протопали мимо.