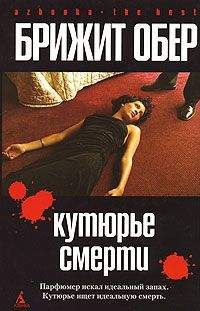Юрий Стрехнин - Здравствуй, товарищ!
Взяла ребенка:
— Ну, до свиданья…
— Вернее — прощайте! Мы сейчас дальше едем. — Пожал протянутую ему руку, тонкую, но крепкую. — Желаю вам побыстрее увидать Родину!
— А вам… — Наташа энергично, почти по мужски встряхнула его руку. — Всем поскорее домой вернуться. С победой. Невредимыми!
Проводив Наташу, Гурьев подошел к окну, широко распахнул его. Розовые краски зари в небе совсем побледнели, сквозь них всё сильнее и сильнее проглядывала голубизна. Порадовался: «Хороший день начинается…» И всё не мог успокоиться: «Наташа, Наташа! Пройти через такое — не каждая сможет. А Лена смогла бы? Конечно…»
«Удивительно! — улыбнулся он своей мысли. — Всё хорошее обязательно примеряешь к любимому человеку: подходит ли? И хочешь, чтобы непременно подошло… Ну, ехать пора».
Вышел на крыльцо. Оба его спутника уже ожидали возле запряженной повозки. Федьков вертел в руках полюбившуюся ему палку с набалдашником.
— Брось эту ерунду — и поехали! — приказал Гурьев, усаживаясь на повозку.
— Шишка уж очень великолепная! — вздохнул Федьков. — Взять бы на память. — Он, любуясь, охватил набалдашник пальцами, нечаянно повернул, и тот вдруг отделился от трости.
— Вот так штука! Чудно! — Федьков потянул набалдашник: он оказался рукояткой кинжала, спрятанного в трости. — Может, и тот богослов с таким сюрпризом шел? Вот и приветь такого бедного студента… Страна чудес! — Федьков сунул кинжал обратно в трость. — Попробуй разберись, кто с чем ходит.
* * *
Повозка катила по сонной, еще безлюдной улице. Из-за белых мазаных оград подымались тонкие сизые струйки дыма: хозяйки на таганках готовили завтрак. Заслышав постукивание колес, выглядывал из-за ограды любопытный крестьянин и снимал высокую остроконечную шапку из черной овчины. Федьков весело помахивал всем и восхищался:
— Чудно! Как родню провожают. А что мы им?
— Як що? — удивился Опанасвнко. — Да они через нас вже краешек новой жизни побачили.
— А знаете? — признался Федьков. — Я про румын раньше одно понимал: бить их надо! Оккупанты ведь. Одессу мою захапали. А потом, как в Румынию мы вошли, и увидел я, что каждый встречный шляпу скидает да всё «пожалуйста» да «пожалуйста», словно холуи какие, — тут уж не злость, а просто противно стало. Решил я тогда: наверное, все тут — как эти жукари в городах — коммерсанты да спекулянты, универсальные торговцы.
— Этой публики тут действительно богато… — припомнил Трофим Сидорович. — Один — ось як ко мне прилепился, всё выпрашивал: «Що хотите купить? Що маете продать?» Поверишь, два километра за возом тянувся, як пёс. Вожжой ему погрозився, тильки тогда отстал.
— Да, публика… — протянул Федьков. — Посмотрел я на неё и тошно стало: ну вас к шуту и с королевством вашим, скорее бы нам: через вас пройти. Живите, как знаете, только на нас сдуру не полезьте, а то опять побьём…
— А сейчас як румын понимаешь? — Опанасенко пытливо посмотрел в глаза Федькову. — Кроме жукарей — ещё что бачишь?
— А как же? Трудящийся народ. Вот как Матвей этот или батька его — правильный старик. Только смелости у людей тут пока ещё маловато. Им говоришь, а они боятся. Ну, да наберутся смелости!
— А что ты им говорил, Федьков? — поинтересовался Гурьев, прислушавшийся к разговору. — Призывал произвести государственные реформы? — Зная решительность Федькова, он немножко беспокоился: не натворил ли тот чего-нибудь?
— Да нет, что вы, товарищ старший лейтенант? Я в местные дела не совался… — О расписке, данной приказчику, Федьков благоразумно умолчал.
— Я думку маю, товарищ старший лейтенант, что здешние до новой жизни ещё швыдче обернутся, чем наш брат в своё время, — заговорил Опанасенко. — Помню, в двадцать девятом, сколько нам утолковывали! Свои партийные, с района, с города уполномоченные разные. Все разъясняют: идите до колгоспа, гарно жить будете. А селяне и так и этак прикидывают, як, да що, да як бы оно не прогадать… Ночей не спали, от дум голова кругом шла. Да и когда колгосп сладили — сколько раз бывало як то кутеня слепое тыкались, пока уразумели, що до чего и як приходится. А здешним — шо им? Могут и по нашей мерке прикидывать. Я вот вчера хозяину-то рассказал кое-чего про колгосп да як до войны жили, он тильки ахает: «Эх, нам бы воно!» Бачу, що и верит, и не верит, и даже вроде боится об таком думать. А чего бояться? Дело верное. Спытано…
Разговаривая, незаметно проехали почти всю длинную улицу села. Из дворов выходили, лениво пожевывая жвачку, коровы и присоединялись к ещё реденькому потоку стада, медленно бредущего по улице. Знакомый пастушонок, волоча по пыли длинный бич, медленно шел навстречу едущим. Деловито пробежала вдоль стада лохматая дворняга — помощница пастуха. Где-то во все горло заорал петух, наверное, сконфуженный тем, что проспал начало утра, и решивший наверстать упущенное.
Ещё издали было видно; возле ворот дома Сырбу стоит Матей. Уходя, он договорился с Гурьевым, что тот заедет попрощаться.
Поравнявшись с воротами, Опанасенко попридержал лошадей. Из калитки вышел Илие, за ним — Дидина и Стефан. Илие настойчиво стал приглашать русских товарищей в дом: завтрак уже готов. Но Гурьев, поблагодарив, отказался.
Огорченный Илие предложил зайти хотя бы молока выпить. Опанасенко и Федьков не захотели: Федьков вообще считал, что «молоко только девчонкам пить прилично», а Опанасенко издавна привык спозаранку сначала поработать, а подзаправиться — потом. Гурьев же, минутку поколебавшись, вместе с Матеем пошел в хату. Он тоже когда-то терпеть не мог молока, но Лена, любительница всего молочного, приучила его пить парное натощак. Может быть, и она сейчас потягивает свеженькое, вкусно причмокивая губами?.. Нет, какое там молоко! Пожалуй, ещё до места не добралась! Где-нибудь в битком набитом вагоне она сейчас или на замызганном полу вокзального зала, после бессонной ночи, пересадки ждет. Трудно сейчас ехать по железной дороге… А может, Лена и не выехала ещё?
Тем временем Федьков спрыгнул с повозки, подошел к Стефану, стоявшему в сторонке, сунул ему разысканную, наконец, пачку махорки:
— На, кури, нас помни. Желаю счастья!
Стефан печально улыбнулся. Федьков положил ему ладонь на плечо:
— Брось нос на квинту вешать, Степа! Ты же парень хоть куда. Не горюй! Ну, будь здоров! Привет невесте!
— Спасибо, бабушка! — сказал Дидине уже вышедший из хаты Гурьев, подавая руку ей на прощанье. Нерешительно протянула она ему свою руку, и Гурьев с уважением бережно пожал её. Вот такие же сухие узловатые от многолетней и напряженной работы пальцы были и у его матери — крестьянки из далекого сибирского села…
Словно желая сказать что-то напоследок, Матей вплотную приблизился к Гурьеву. Тот видел: Матей взволнован расставанием, будто прощается не со случайным знакомым, которого знал всего-навсего один день.
— Ну как, теперь не испугаетесь? — вдруг спросил Гурьев улыбаясь.
— Нет! — Матей, словно клянясь, приложил к груди руку, сжатую в кулак.
Сейчас старший лейтенант напомнил ему о разговоре, который у них произошел утром, как только они проснулись. Матей с тревогой сказал тогда: вот русские товарищи уедут, а вдруг вернутся те трое и в отместку что-нибудь худое натворят?
И Гурьев на вопрос ответил вопросом: а разве и Матей, и Илие, и все, кто в селе с ними, — не хозяева в своем доме? Разве не сумеют они, как надо, встретить нежеланных гостей?
Подошла последняя минута. Трогать пора.
Крепко сжимая руку Гурьева, Матей с чувством проговорил:
— Спасибо!
«Да только ли нам эта благодарность? — К горлу Гурьева подступил комок. — А матросу Николаю? А солдату Василию? А всем нашим… Всем, кто вложил в души этих людей зерно большой надежды».
— Что ж, Матей… Счастливо оставаться вам в Мэркулешти.
— Нет! — показал на себя Матей — Плоешти!
— Плоешти? Надумал? Правильно!
Гурьев рад был за Матея: для него войны уже нет, может сам решать, что ему делать. Вернуться к своему делу, к мирной работе… Как не позавидуешь этому?
К повозке подошел Илие, обутый в постолы, с посошком в руке: он ещё вчера вызвался быть проводником.
Приглашенный Гурьевым, старик степенно уселся на передок рядом с Опанасенко. Повозка тронулась. И долго, если оглянуться, можно было видеть: стоят у ворот трое и смотрят вслед.
* * *
За селом свернули, как указал Илие, на малоезженную полевую дорожку. Высокие стебли цветов и трав, заполонивших колею, с легким шелестом скользили по ободьям и спицам, и запах зелени и росы, этот особенный, неповторимый бодрящий аромат прохладного утреннего поля заполнял всё вокруг и невольно заставлял дышать полной грудью. Солнце ещё не показалось из-за леса, но небо над вершинами деревьев было золотисто-голубоватым, как всегда за несколько минут до появления солнца. Не виднелось ни облачка: день предвещал быть погожим.