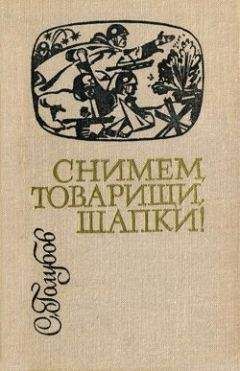Аркадий Первенцев - Над Кубанью. Книга вторая
Люди у кузницы, проводив их глазами, снова принялись за свои дела. Помогали натягивать шину, придерживая колесо железными крючьями, подводили под мажару окованный передок. В станок — четыре столба с перекладинами — с криком начали заводить для ковки строптивую серую лошадь.
— Я, пожалуй, здесь слезу, — сказал Шаховцов, — тут до дома ближе.
— Может, подвезти?
— Пройдусь пешком, тут же недалеко.
— Ну, как хотите. — Меркул тронул лошадей.
Отъехав, покричал:
— Отцу поклон передавай, матери тоже!
Донька обернулась, улыбка мелькнула на ее лице. Заметив, что Шаховцов смотрит вслед, Донька отвернулась.
«Они ничего не знают, — мучительно подумал Шаховцов, направляясь домой. — Признаться? Признаться хоть Барташу. Тот поймет его, может, — один из всех поймет, — но он далеко, и потом… Поведать позор падения, рассказать о своей подлости. Ведь сообщи даже Барташу, не один же он будет знать. Лучше пусть никто, — решил Шаховцов, — никто из… своих. Согласие на предательство еще не означает предательство. А может, тех уничтожат… уничтожат…»
Его встречали обрадованные родители, Петя, Ивга. Василий Ильич долго целовал их родные, близкие лица. Потом он разделся, умылся, с наслаждением переменил белье и переоделся в непривычный штатский костюм.
— Разве уже можно? — спросил его отец, разглядывая сына из-под очков.
— Еще нельзя, папа, но хочется.
— Может, уже не пойдешь? — осторожно спросил отец, присаживаясь к столу.
Марья Петровна задержала руки возле горячего чугунка с картошкой, который она только что поставила на стол. В лице ее Василий Ильич видел радость ожидания.
— Нельзя, — коротко ответил он и опустил глаза к тарелке.
— Ну, раз нельзя, значит нельзя, — сказал отец, наливая рюмки из четверти, доверху набитой разбухшими вишнями.
— Я так и знал, — громко сказал сестре Петя, — Вася не из таких. Раз пошел драться, значит — до конца.
— Мы думали, — подсаживаясь, сказала мать, — чем воевать, не лучше ли снова учителем. Уже и с директором высше-начального договорились.
— Мать, — укоризненно остановил ее Илья Иванович.
Марья Петровна покачала головой.
— Вроде когда царь на службу брал, другое дело было. Хочешь не хочешь, а иди. А сейчас ведь никто не неволит. По доброй воле дерутся.
Она приложила фартук к глазам, потом поставила локти на стол и застыла, глядя куда-то в одну точку. Василий Ильич взял ее за плечи.
— Мама, не надо. Все будет хорошо.
— Ну, давайте выпьем по этому случаю, — нарочито веселым голосом произнес Илья Иванович, надувая свои пухлые розоватые щеки, — мать, полно тебе… Никого не хороним. Бог не выдаст — свинья не съест.
Прослышав о приезде сына к Шаховцовым, к ним пришли Мартын Велигура и старик Литвиненко. Они принесли с собой водки, сразу же выставили ее на стол и принялись издалека расспрашивать о Корнилове и его действиях. Василий Ильич подробно говорил о бое под Средним Егорлыком, тяжелом ранении Мостового, о потерях красных. Гости переглядывались между собой, выспрашивали, вставляли колкие замечания. В конце концов Василий Ильич потушил душевную тяготу, и эти люди, враждебные Мостовому, показались ему близкими, приятными.
— Выходит, супротив Корнилова не дюже приходится фасонить, — заметил Велигура. — Это тут, что ни день, новый отряд шумит.
— Отряды бывают? — спросил удивленный Василий Ильич.
— Чего доброго, а их хватит. Все ленты из потребиловки поразобрали. Всю зиму будто свадьбы. — Велигура оживился. — Позавчера какой-ся командир ихний в лавку прикатил, а с ним еще с десяток гавриков. После узнал: раньше тот командир был на лесной бирже приказчиком. Здоровый чертило, еле в двери влез, голос вроде колокольного звона, аж в ушах больно. Растолкал народ, к стойке. Подавай товар на сапоги. Видите ли, он нигде по своей ноге готовых сапог найти не может. Сто офицеров вроде он побил, и все ноги китайские. Подал я ему гамбургских передов пар шесть на выбор да шагреневых голенищ. Он покрутил их, покрутил, посопел, да как хлобыстнет меня голенищей по морде. «Ты чего ж это на смех меня перед бойцами поднимаешь! Покупателя не видишь. Дите к тебе пришло? Давай не обмерки, а чтоб на мою ногу годилось. Без обуви хожу». Наклонился я поглядеть, и верно, несчастный человек, ножища длиныие нашей вывески, а до колен и полсажени верных. А ему голенища с козырьками хочется, наполеоновские. Принес ему со склада юхтовые вытяжки, что для болотных сапогов идут, а они ему на четверть короче. Прикинул он вытяжки и еще пуще заревел. Потом весь товар со стойки зацепил и был таков. Что ж, за ним не угонишься…
Литвиненко подозрительно глянул на Велигуру.
— Что-то ты, Мартын Леонтьевич, раньше не так рассказывал. Вроде ты рассказывал, что тот лесной приказчик только одни гамбургские переда прихватил да поднаряда на две пары. Ты уж брехал бы в лад, в одно.
— Как брехал? — взъершился Велигура.
— Да я ничего, — тихо сказал Литвиненко, собирая крошки в ладонь, — только дойдет твой разнобой до peвизионной комиссии, ну и не придется за счет того алаха-ря проехаться. За тобой все зачислят.
— Как за мной? — Велигура поднялся. — Всякая шантрапа будет грабежом заниматься, а я ответ держи. Позавчера кожевенный товар, вчера кумачовую штуку на флаги да десять аршинов миткалю на буквы по бату-ринской записке отпустил. Потом два автомобиля прислал: керосином их накачай. Влезло в их не менее полбочки. И все без копейки. Одни записки на барбарисовой бумажке. Коммуния, мол. Деньгам конец. На конфетные бумажки переходим. По-моему, так надо закрыть потребиловку, а паи по рукам.
Велигура наступал на Литвиненко, и Илья Иванович насилу усадил гостя. Налил водки и перевел разговор опять на войну, на Корнилова. Велигура успокоился. Литвиненко изредка оглаживал узкую седоватую бороду и хмуро поглядывал на собеседников.
— Конные есть у них? — будто невзначай спросил он.
— Очень мало, — сказал Шаховцов.
Литвиненко крутил хлебный шарик. Вспомнив, что хлебом нельзя баловаться, оглядел шарик, кинул в рот и коротко перекрестился.
— Надо помочь конными, — тихо произнес он, ни к кому не обращаясь. — В кубанских степях пеши скоро уморишься. Долго не натопаешь. Штык-то хорош, но без шашки цена ему маленькая.
— Это смотря кто к чему привычный! — сказал Илья Иванович, переводя разговор на начатую тему. — Вот я про себя скажу. Как был маленький очень, помню, кулака боялся. Потом свой кулак окреп. Начал я тогда уважать камень в кулаке. Помню, бил больно и до крови. Когда же научился камнем владеть и не хуже других — признал за грозу палку. Но и палка, скажу я вам, страшна была до первого удара. Нашел я у нее второй конец и потерял уважение к палке, деревянной палке. Но есть у нас по станице мода с железными прутками таскаться. Помню, в бытность парубком, швырнули мне в грудь железным прутком, кажется, на саломахин-ском яру.
— Не на яру, — перебила Марья Петровна, — на саломахинском мосту, на покров день.
— Верно, на мосту, — согласился Илья Иванович, — тебе лучше помнить. За тебя дело вышло, суженую-ряже-ную.
— За тебя, мама? — игриво спросила Ивга. — Это хорошо, когда за девчонку мальчишки дерутся.
— Молчи уже, — остановила ее покрасневшая мать, — молода еще.
— Так вот, — продолжал Илья Иванович, — стал тогда уважать я железный прут, но снова до поры до времени, пока сам таким прутком не обзавелся. Гляжу, пустяк — палка и палка. Был тогда я далек от казачества и начал с большим уважением на шашку поглядывать. Страшнее всего мне шашка показалась. А потом подержал ее в руках, помахал ею, и ничем я ее от прута не отличаю. Ничего страшного у нее нет. Ну, кусок железа, плоский кусок, да к тому же еще и короткий. Кто знает, если ударить ей по шее, башлыком завязанной? Перерубит ли? По-моему, не перерубит. А по спине? Если хорошая дубленка на плечах? Ну, пусть овчину просечет, кожу чуток, но ведь кость-то твердая.
— То ты еще шашки не попробовал, — ухмыльнулся Велигура, — кто ее пробовал, таких речей вести не станет. Она ему и во сне снится.
— Ну кто ее пробовал? — пожимая плечами, сказал Илья Иванович. — Что-то я не видел, чтобы пришел казак с фронта и хвалился, что вот руку у него шашкой отхватили. Одни шрамы. И верно, ведь железо по кости боком скользит, раз упора нет. Погляжу я на мясника. Чтоб кость перерубить, да не где-нибудь, а на колоде, как он крякает, да как топором замахивается. И то с одного раза не всегда пересечет.
Литвиненко поднялся.
— Если злобы в сердце нет, Илья Иванович, то шашкой не то чтобы кость, а даже лозину не перехватишь. Для удара злоба нужна. А по злобе можно развалить недруга до самого седла, правильно говорю тебе. Шашка с сердцем на одной жиле подвязана, если хотишь знать. А насчет того, что никто с отрубленной рукой не возвращался, удивляться не приходится. У наших-то врагов-ка-заков нема. А у врагов-басурманов калек небось немало по ихним ярмаркам шляется, копейки в чашки собирают. Казачий удар пока по своим не приходился. Потому и примера нету, Илья Иванович. — Он истово перекрестился и подал руку. — Ну, пока прощайте. Спасибо за хлеб, за соль, за угощенье, за ласку.