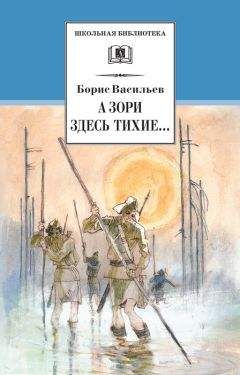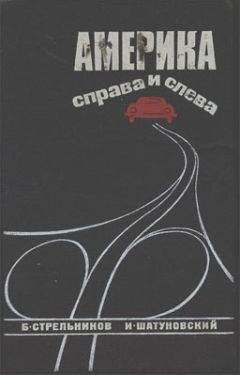Борис Васильев - В списках не значился
— Где я?
От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье, бородатые мужчины и два женских лица: молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее, — в глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерке. Шарил и не находил оружия.
— Выпейте воды.
Молодая протянула жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул: вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых: троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него; у пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но — улыбалась. Что-то знакомое, далекое как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо:
— Пистолет. Мой пистолет.
— Вот он. — Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему. — Не узнаете, товарищ лейтенант?
Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были, он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился.
— Не узнаете? Помните, в субботу — ту, перед войной, — мы в крепость пришли. Вы упали еще. У КПП. Я — Мирра, помните?
— Да, да.
Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп, и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный, последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!..» Он вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими.
Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал.
— Сытые? — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. — Сытые, чистые, целые?.. А там, там братья ваши, товарищи ваши, там, над головой, мертвые лежат, неубранные, землей не засыпанные. И мы — мертвые! Мертвые бой ведем, давно уж сто раз убитые немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, — пулеметам. Дети от жажды с ума сходили, а мы — пулеметам! Только пулеметам! Чтоб стреляли! Чтоб немцев, немцев не пустить!.. А вы отсиживались?.. — Он вдруг вскочил. — Сволочи! Расстреляю! За трусость, за предательство! Я теперь право имею! Я право такое имею: именем тех, что наверху лежат! Их именем!..
Он кричал, кричал в полный голос и трясся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата.
— Ты нас не сволочи.
Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей окровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал:
— Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек.
«Вот я и вернулся, — устало подумал Плужников. — Вернулся…»
Часть третья
1
Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.
Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, метровой кладки, стены, склад заваливало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, вырыли его, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать: они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.
Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.
Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.
— Хана, — прохрипел Федорчук.
Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней: от трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор.
— Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня?
— Дети. — Она на секунду обернулась. — Дети там. Мои дети.
Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.
— Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти, где они, наши?
— Куда разведку-то, куда? — вздохнул Федорчук. — Немцы кругом.
А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и взошла на мост — еще скользкий от крови, еще заваленный трупами — и упала здесь, среди своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала, как шла: прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.
Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант Плужников.
Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников, — и он увидел новенькие, тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией.
К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой: каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь.
— Вернемся, — сказал Плужников.
Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовностью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке. Только раз старшина негромко вмешался:
— Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан.
Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол.
— Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Понемногу надо. Живот надо заново приучать.
Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся.
Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо.