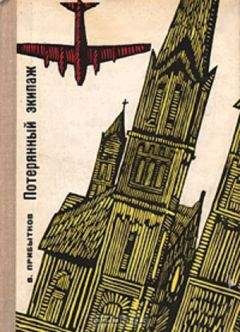Михаил Лыньков - Незабываемые дни
Сымону было не до шуток. Просто хотел отделаться or назойливых мыслей, не дававших ему покоя. Если бы он был моложе, нашелся бы и лучший способ выпутаться из этого отвратительного положения. А пока он не видел способа.
Не давали покоя тревожные мысли и Ганне. Она сознавала, что некоторые слова просто говорит, чтобы подбодрить себя и других, чтобы развеять невеселые думы. А как оно все пойдет дальше, чем это кончится, она и сама еще не могла во всем как следует разобраться. В самом деле, где теперь эта область? И в Минске же засели проклятые фашисты. И где ты теперь возьмешь партийного человека? Или ему специально оставаться, этому человеку, чтобы попасть в грязные руки душегубов? Конечно, вот и Апанас Швед партийный человек. Уже лет пять в партии. И сметливый человек, внимательный, знает, что к чему. Одно, что свойский человек, сосед… Еще помнит тетка Ганна, как когда-то, лет, должно быть, двадцать тому назад или немного больше, приходилось ей гоняться с плеткой за этим Апанасом, тогда еще Панаском, слишком охочим на морковку и мак с чужого огорода. Разумеется, не один он такой. Человек, что ни говори, уважаемый, солидный, серьезный, можно сказать, человек. Да, но свой же, сосед…
Когда все в хате замолчали, отдавшись своим мыслям, чтобы выбрать самую лучшую и наиболее подходящую, с которой можно было бы поделиться и с другими людьми, в сенцах скрипнула дверь и через порог, не ожидая особого приглашения, переступил Остап Канапелька.
— Что-то сидите вы тут, как куры на насесте. Заснули?
— Заснешь тут! — пробормотал под нос Сымон.
— А чего ж вы это, как дохлые мухи? О чем беседу вели, что вдруг так притихли, как немые?
— Невеселые у нас разговоры… — откликнулась тетка Ганна. — Может, слышал уж наши новости?
— Слыхал, слыхал… Хвастать особенно нечем.
Павел Дубков и Швед рассказали Остапу Канапельке о всех последних событиях. Что-то шепнул на ухо Шведу Остап. И тогда Ананас Рыгорович сразу встал, даже пояс подтянул, поправил гимнастерку, словно готовился к какому-то официальному выступлению. Тетка Ганна посмотрела на него, подумала: «Ишь ты, нашел время прихорашиваться…».
Апанас Рыгорович тем временем заговорил с Сымоном, и в голосе его, тихом и спокойном, слышались нотки не то повелительные, не то убеждающие:
— Видите, дядька Сымон, придется вам пойти в старосты, никуда не денетесь.
— Что вы, ошалели все? — сердито бросила тетка Ганна, с удивлением поглядывая то на Шведа, то на Остапа Канапельку, который молча возился с кисетом, растирая на ладони желтые листы табака.
— Так что становитесь на пост, берите власть. Такое вот мнение у нас..! — и даже лоб вспотел у Апанаса Рыгоровича от этой небольшой речи.
— Что ты городишь? К чему твое слово, человече? — недоумевающе спросил Сымон.
— Вы будете старостой, вот к чему мое слово. И не мое только, такое мнение у нас…
— У кого это — у нас?
— У кого? — и Апанас Рыгорович заговорил словно в шутку: — Разве вы забыли, дядька Сымон, что я у вас председатель сельсовета… Представитель советской власти… Вы ее признавали и признаете, как мне известно. А если это так, должны же вы исполнять ее распоряжение…
— Что-то мелешь ты несуразицу… Где это видано, где это слыхано, чтобы советская власть ставила над народом фашистскую погань… немецкое начальство?
— Истинную правду говорите, дядька Сымон. Не хотим погани. Хотим мы… ну, советская власть хочет, и… вы же свой человек… партия наша хочет, чтобы были теперь с народом свои люди! Понимаете, свои… Меньше будет горя людям. Фашисту скорее конец придет. Войне дни укоротим.
Слушала и охала тетка Ганна.
— И вам совет, тетка… Трудно вам будет. Остерегаясь жить надо. И фашистов опасайтесь, и злого человека берегитесь. Не очень пускайтесь в разговоры. Сами понимаете.
Совсем размякла тетка Ганна. Машинально приготовила поесть Дубкову, тот собирался куда-то в дорогу. Спросила для приличия:
— Куда же ты, сынок?
— Да уж куда-нибудь. Не спрашивайте, тетка. Может, еще и не раз увидимся.
Он ушел вместе с Апанасом Шведом и Канапелькой.
— Что только творится на белом свете, нет людям ни покоя, ни порядка в жизни, — все вздыхала тетка Ганна, проводив гостей.
— Тише, ложись уж спать, скоро рассвет, — не утерпел Сымон.
Так стал старостой знатный колхозный бондарь Сымон.
3
Иначе развернулись события в заречном колхозе «Ленинский путь». Еще накануне того дня, как фашисты заняли городок, явился в деревню старый Мацей Сипак, о котором уже лет пятнадцать не было никаких слухов. Был он сослан в свое время по решению суда за убийство селькора, разоблачившего все его жульнические проделки в сельсовете и комитете взаимопомощи. Юркий кулачок в то время сумел так устроиться, что на него работали и комитетские ветряки и кирпичный завод. Были у него тогда свои люди не только в сельсовете, но и в районе и даже выше. Налаженное хозяйство каким-то образом превратилось в показательное культурное хозяйство, в котором работало около десяти постоянных батраков, да еще сколько-то людей отрабатывало ему дни и во время жатвы, и на сенокосе, и осенью — на картошке, на току. Хозяйство росло, вместе с ним росли кулацкие аппетиты. Мацей Сипак подбивал комитетчиков на постройку паровой мельницы, обещал и необходимую сумму занять, и помочь рабочей силой, лишь бы ему шли потом хорошие отчисления с оборота.
Впоследствии все эти махинации Сипака начали постепенно выплывать на поверхность в окружной газете, попадали и в центральные. Сипак бросался то в район, а то и выше, чтобы как-нибудь замять неприятные дела. А тут пошли слухи, что культурное хозяйство вскоре ликвидируют. Слухи эти пришли от верного человека из округа. Тот помог Сипаку узнать имя того селькора, который так насолил ему газетными заметками. Был это один комсомолец, письмоносец из соседнего села, совсем невзрачный с виду паренек, а поди, какой проворный…
Как-то ранней весной, когда пастухи выгоняли коров на первую пастьбу, они нашли письмоносца в лесу. Он лежал с пробитой головой в густом сосняке у дороги. Почтовой сумки не было при нем. Эта сумка и подвела Сипака. Он очень уж интересовался, кто, как и о чем пишет из села. Не успел он еще перечитать всех писем, как его арестовали и отвезли в район вместе с почтовой сумкой и письмами.
Это было так давно, что люди уже забыли и про самое дело, и про Мацея Сипака. Его и не узнали сразу и все интересовались, что это за незнакомый человек появился перед домом правления колхоза. Замусоленный ватный пиджак, порыжевшие сапоги, изъеденный молью малахай и запыленная козлиная бородка делали его не очень заметным. Человек, как человек, мало ли теперь ходит людей по разным делам? Но поведение незнакомца сразу бросилось всем в глаза. Он стоял против крыльца и, прищурив один глаз, внимательно читал небольшую вывеску над дверью. На куске жести чьей-то старательной рукой — видно, какого-то местного любителя — было аккуратно выведено: «Колхоз „Ленинский путь“». Незнакомец, забравшись на крыльцо, даже ткнул в вывеску своей клюшкой, то ли затем, чтобы удостовериться, что вывеска хорошо прикреплена к доске, то ли по другой причине. И рот его с потрескавшимися, высохшими губами словно что-то шептал, или он просто шевелил губами и облизывал их. Узенькие щелки глаз сверкали на запыленном скуластом лице, казавшемся еще моложавым: пот и пыль прикрыли глубокие морщины, под рыжей щетиной не видны были запавшие щеки. Он повертелся на крыльце, вошел во двор, осмотрел все строения: клеть, стойла, навес, прошелся около дома. Он все внимательно оглядел, как рачительный хозяин, и если бы кто-нибудь был поблизости, то услышал бы, как человек сам с собой разговаривает:
— Это хорошо, что подрубы сменили, старые, видно, давно истлели. Опять же бревна новые в стене, и это не лишнее. Но крышу не мешало бы подновить.
Пришелец ткнул было в дверь, что со двора, но она была на замке, и он снова вышел на улицу, к крыльцу. Уселся на ступеньках, положил рядом дорожную сумку и, неторопливо скручивая цыгарку, шнырял глазами по ближайшим хатам, по улице, на которой не было ни души в этот знойный час.
Старая Силивониха, заметив из окна своей хаты незнакомого человека, седевшего на крыльце правления, позвала мужа:
— Гляди, человек уже сколько времени сидит… Может, у него какое дело к Андрею?
— Какие там дела теперь, в такое время! Да и где он Андрея найдет, если и я толком не знаю, где он бродит. Только по ночам и увидишь его, да и то не всегда. У них теперь совсем другие заботы.
Когда Силивон Сергеевич говорил «у них», он имел в виду молодых. И другой смысл вкладывал он в это слово. У них — значит, у сельского актива, у коммунистов, у комсомольцев. И не только у партийцев, как называл он и коммунистов и комсомольцев, но и вообще у деятельной молодежи, у тех, которым он мог быть отцом или даже дедом. Много хлопот наделал им фашист. Как теперь лучше спрятать колхозное добро? Какую устроить фашисту встречу, чтоб ему от этой встречи было солоно? Разумеется, не миновали эти хлопоты и его, Силивона Сергеевича. Одно, что не угнаться ему за всем этим из-за преклонных лет. И без того хватило и ему и старой Силивонихе. Кто бы поверил раньше, что он со своей старухой перенесет такие напасти, которые неожиданно ворвались в его тихую, мирную хату. Где теперь Игнат? Может, тоже погиб, как погибла вместе с ребенком дочь Ксеня? Обо всем рассказала им несколько дней тому назад Надя Канапелька, которая, наконец, привела Васильку в дедову хату. Жаль мальчика, слишком рано осиротел по милости фашистов… Да что малому? Играет вот с детьми на дворе. Хорошо, что мал, не изведать ому горя в полную меру, в полную силу. Не понимает еще… А старая который день плачет, все глаза выплакала. Теперь сидит у окна. Как сядет, так с места ее не сдвинешь. Думает о чем-то, вспоминает. Изредка головой кивает, заговорит сама с собой: «Детки мои родимые, за что ж вам такая смертная доля суждена?»