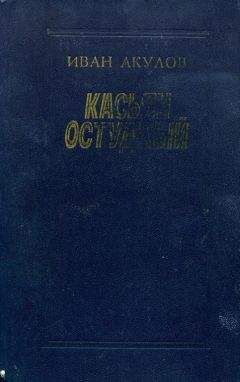Иван Акулов - Крещение
— По два года у нас, скажи на милость, такие травы выстоялись — хлебам вровень. Думаешь, вот житуха пришла, а на сердце нет покоя. Нет — и шабаш. С хлебом, со скотиной выправились. Около домов стало обиходней. И то ли вот оттого, что сыто-то мы давно не живали, то ли еще почему, но кажется завсе, что не к добру такая справная жизнь. И часто у нас бывало: что ни разговоришко, то и о войне. Бабы соль и мыло про запас набирали. Ребятишки — только им дела — по огородам в войну играют. Мой самый малый схватит у матери гребенку и наигрывает марши, а потом залезет на бочку и кричит: «Даешь Самару!» Духом к войне мы подготовились, а все остальное прочее…
Минаков вдруг смолк на полуслове и, лишь бы сказать что-то, спросил под руку Заварухина:
— Может, неразведенного, товарищ подполковник? Он, голимый-то, под воду легче идет.
Но Заварухин выпил полстакана разбавленного спирта и налил из алюминиевой фляжки Минакову:
— Выпей, Минаков, за компанию и скажи без утайки, как думаешь, чем это все кончится?
Минаков выпил, отдышался в рукав телогрейки, покраснел и прослезился. Подобрал губы в улыбочке:
— Супротив водки пресноват он вроде бы.
— Грубый напиток, чего уж там, — согласился Заварухин и стал торопливо есть поджаренное сало. — А ты чего?
— Я уже, товарищ подполковник… Вот вы интересуетесь, чем это все кончится. Побьет нас к утру немец— вот и конец.
— Ты об этом уже говорил, Минаков.
— Так ведь вы спрашиваете — я и отвечаю.
— Я, Минаков, за всю Россию спрашиваю.
— За Россию-то, товарищ подполковник, может, и Христос бы ничего не нашел сказать, потому как она родилась раньше Христа, Россия-то. Ведь это такой размах.
— А себя, выходит, ты уже списал окончательно?
— Списал, товарищ подполковник. Списал, как повесточку из военкомата получил, — с грустной улыбкой сказал Минаков. — А на что ж нашему брату рассчитывать? Крестьянину. Грамотный или рабочий, скажем, он где-то около машин, на второй линии. И их бьют, не без того. А уж наше дело — в обнимочку с винтовкой и без зацепки до самой передовой. Никакого умения, ремесла в руках — один счет тебе: активный штык.
— Все так, Минаков. Все так. Но списывать себя до времени не годится. На активном штыке сейчас все держится. А ты говоришь: списал себя, конец к утру. Такая позиция на политическом языке называется пораженческой, а по-военному — просто трусостью.
— Человек, товарищ подполковник, никогда не знает себя до самого донышка. Хоть и меня взять. Может, я храбрый, а может, и трус. Вот век свой доживаю и не знаю, кто же я. Может, ваша правда: трус я, коли умер раньше смерти.
Минаков умолк и без нужды, но усердно сопя, начал поправлять фитилек коптилки. Заварухин глядел на него сбоку, видел его мягко прищуренный глаз, спокойно приоткрытые губы в жесткой, неровно сбритой бороде и думал: «Этот не подведет».
За окном зачавкали грязью тяжелые сапоги. Раздались голоса часового, стоявшего у дома, и того, кто подошел. Минаков бросился к дверям и, распахнув их, пропустил в избу комиссара. На голове комиссара была нахлобучена до самых ушей суконная пилотка с жестяной звездочкой. Мешковатая солдатская шинель была наглухо застегнута до самого подбородка. На тряпичных петлицах, как выспевшая клюква, красно рдели комиссарские шпалы. Минаков помог комиссару раздеться и повесил его туго набрякшую шинель к теплой боковине печи.
Сам, чтобы не мешать разговору командиров, вышел в сенки. В темноте у ящиков с гранатами наткнулся на кого-то:
— Кто такой?
— Я это.
— Да кто ты?
— Подчасок.
— А тут чего?
— Ходить бы надо, да не могу. Давеча зацепило чем— то ногу, как иголочкой ткнуло, а сейчас ступить невмочь.
— Ну-ка, — Минаков, крепко задев прикладом карабина сидевшего на ящиках, присел рядом, чиркнул спичку. Боец, совсем еще мальчишка, с худой шеей в большом засаленном воротнике гимнастерки, размотал на левой ноге порванную обмотку, приподнял штанину: белая волосатая икра была пробита навылет. Пуля или мелкий осколок прошел под самой кожей, опалив ее до черноты. С одной стороны ранка припухла и взялась недоброй краснотой.
— Что же ты, сукин сын, ай потерять ногу захотел? В медчасть надо.
— Стыдно же, дядя, с такой-то раной. А она, черт ее дери, болит вот.
— А зовут-то тебя как?
— Алексей. Алексей Колосов.
— Эк ты, Алексей, Алеха! У меня сын Алешка. На зоотехника только выучился. Тоже где-то гнет службу — разве узнаешь где в такой-то заварухе? Может, вороны и глаза уж выклевали. Ты погодь, Алексей! Сейчас я тебя облажу в лучшем виде.
Минаков поднялся и ушел в избу. Командир и комиссар сидели за столом, пили чай и о чем-то негромко, но упрямо спорили. Когда вошел Минаков, они разом умолкли, а Заварухин спросил:
— Минаков, сахар у тебя есть?
— А как не быть, есть и комковой, и песок. Или я не подал?
В сенки Минаков вернулся с полустаканом неразбавленного спирта и усердно, как врач, принялся спиртом промывать рану на ноге Колосова. Потом достал из кармана своей телогрейки индивидуальный пакет, разорвал замусоленную в кармане обертку его и бережно, как мог, из-под самого колена забинтовал ногу.
— Ну, как теперь?
— Да что говорить, батя, теперь я ожил.
— Погодь малость. Погодь! На-ко вот. Выпей, и дело сразу пойдет на поправку. Всякие там микробы в одночасье сгорят. Девяносто градусов — шуточки!
— Я, батя, ни водки, ни пива в рот не брал.
— Ни разу?
— Не.
— Мой Алешка! Теперь-то нет уж. Теперь что. Теперь курица петухом поет. Держи давай!
Колосов ощупью нашел руку Минакова, взял стакан и одним духом опрокинул его в рот. У парня перехватило дыхание, но Минаков сунул ему ковш с водой прямо в зубы:
— Так-то, как ты, нельзя. Так-то, как ты, дважды два окочуриться. Девяносто градусов, плесни — само вспыхнет. Отошел теперь?
— Отошел.
Колосов сразу захмелел: руки и ноги ослабели, отнялись. Самому ему сделалось легко и безотчетно. В груди будто что-то смыло, мешавшее дышать и думать. Он молодыми, крепкими зубами ломал ржаной сухарь и не без гордости рассказывал:
— Я, батя, лучший пулеметчик в роте старшего лейтенанта Пайлова. Может, слыхал. Ну как лучший? А вот ложусь за «максима», и хочешь — чечетку, а хочешь — «Яблочко» выбью. Завтра утром бой будет страшенный. Это точно. А я бы возьми да уйди в санчасть. Нет, ты, батя, скажи честно, как сыну, правильно бы я сделал, если бы ушел-то?
— Откуда ж ты знаешь, что завтра бой?
— Ребята наши из разведки пришли. У него там танков, машин — видимо-невидимо.
— Чего же он нам деревню-то отдал?
— В мешок затягивал. Видишь, вокруг пас стрельба. Стрельба же. Чего еще? Мешок.
— В санроту, дурачок, ушел бы, живой остался. А завтра крышка тебе, хоть ты и лучший пулеметчик.
— Вот уж сразу видно, батя, что ты не из храбрых. «Крышка». Не всем же крышка! Кто-нибудь да останется.
— Это верно.
— А ты говоришь, крышка. Да я их завтра, батя… — здесь Колосов неумело выматерился, — Я, батя, завтра напополам их резать буду. Пуля к пуле. — Колосову икнулось, он понизил голос, увлекся рассказом, хватая Минакова за сухое колено: — Сегодня в избу зашел, на окне фляжка немецкая. Открыл — кофе. Попробовал — чуть не вырвало. Молоко, сахар — до тошноты приторно. Сама фляжка в войлочном чехле. Пробка закручивается — капли не прольется. Потом ребята принесли ранец. Поглядели, а он, язви его, телячьей шкурой подбит, чтобы, значит, спина под ранцем-то не мокла от пота. У нас же ничего этого нету. Нету, батя. И выходит по-немецки, что мы придурки. Низшая раса. А я плевал, батя, на всю ихнюю амуницию и так им отделаю телячьи шкуры — только знай держись…
— Молодой ты, а ярый, скажу, — одобрительно улыбнулся Минаков. — Дрянной это народишко — немец. Скажи, никуда народишко. Чуть оплошай — веревки вить из тебя примется. Зато уж если получит в зубы, смирней твоего теленка станет. Силу он должен нашу почувствовать.
Часовой во дворе окликнул кого-то и потребовал пароль. По легким шагам взбежавшего на крыльцо Минаков узнал начальника штаба, вскочил, вытянулся в темноте:
— Здравия желаю, товарищ майор!
— Заварухин здесь?
— И он, и комиссар.
— Пойдите в штаб, не торчите под дверями, — бросил на ходу Коровин и широко распахнул дверь.
— Комиссар вот, добрая душа, — встретил Заварухин Коровина, — настаивает, чтобы батальоны спали в деревне.
— Ни в коем случае, — запротестовал Коровин и снял свою фуражку с малиновым околышем, отряхнул с нее дождевую влагу, пригладил мокрые, сзади торчком стоявшие волосы. Заговорил, горячась и алея впалыми щеками: — Это что же выходит? Афанасьев две роты вывел в деревню. Печи топят. Варят. Кто разрешил, спрашиваю? Комиссар. Позвать, приказываю, Афанасьева. Нигде не нашли. Покричал, покричал да с тем и сюда пришел.