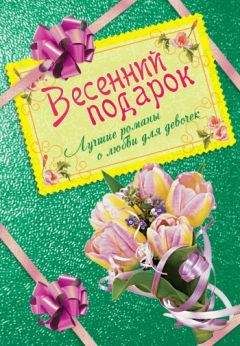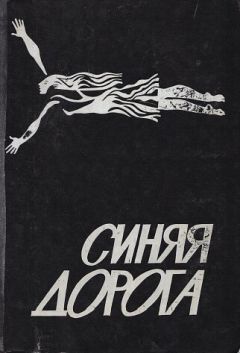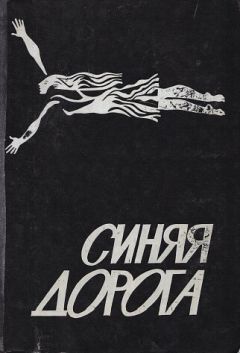Андрей Орлов - Битва за Берлин последнего штрафного батальона
Ожесточение накатило – лютое. Максим не мог даже вспомнить, спал или нет – метался в бредовом беспамятстве. Он где-то слышал, что цветные сны – первый признак подступающей шизофрении. Тотальная усталость не мешала ему в бреду бежать в атаку и крошить неприятеля.
С рассветом советские войска, к которым за ночь подтянулись подкрепления, снова пошли к центру Берлина. Впрочем, штрафбат и остатки танкового батальона майора Чаковского не дождались обещанного подкрепления. Свежие стрелковые роты растворились в городских развалинах.
– Да что же это такое? – ругался капитан Кузин, напряженный и весь какой-то перекореженный. – Они вообще где? Их что, из Одессы везут? С кем наступать прикажете – с этой кучкой чумазых доходяг?
– Сами вы доходяга, товарищ капитан, – обиженно бурчал увешанный трофейными гранатами Асташонок. – А мы еще способны немцам кровь попортить!
Артиллерия двух фронтов беспрерывно обстреливала город. Даже ночью шум не стихал, и звуки далеких разрывов весьма «приятно» накладывались на видения Максима. С рассветом в воздух поднялась бомбардировочная авиация. И вновь над далеким Тиргартеном и правительственными кварталами зависли облака густого дыма. В городе стало нечем дышать. Воздух был напитан гарью. Солдаты кашляли, отплевывались мокротой. Людвигштрассе, по которой они пробивались, ближе к центру превращалась в сплошные руины, там почти не оставалось целых зданий. Советские солдаты бежали по листовкам, призывающим немецких солдат прекращать бессмысленное кровопролитие – желтая бумага плотно устилала улицы. «Пропагандистская» авиация сбрасывала груды листовок на Берлин; седьмые отделы политуправлений [4] работали не покладая рук, и было странно, что их самолеты еще не сталкивались в воздухе. В листовках говорилось, что сопротивление стало «полностью бесполезным». Немцы могут спастись, если безоговорочно капитулируют. Глупо умирать за то, чего нет. Многие листовки оформлялись в виде пропуска: их нужно было предъявить советским солдатам, сдаваясь в плен. Активно использовались «солдаты Зейдлица»: их отправляли в тыл, и они «подрывали боевой дух» бойцов вермахта. Немцы сдавались целыми подразделениями. Но, к сожалению, хватало фанатиков, дерущихся до последнего…
Максим был зол до одури, до отупения. Он бежал в атаку, не задумываясь о том, что может погибнуть, и жаждал только одного: убить побольше фашистов, вгрызться глубже в этот чертов Берлин…
Штрафники стремительным броском взяли баррикаду, проутюженную до этого гаубицами (единственная отрада – артиллеристам ночью подвезли снаряды). Никто еще не знал, что в это самое время западнее Берлина передовые части 4-й гвардейской танковой армии встретились с 47-й армией генерала Перхоровича, и кольцо вокруг Берлина окончательно замкнулось. Что на Эльбе гвардейский корпус генерала Бакланова встретился с американскими войсками, и они вовсю братаются. А Жуков рвет и мечет, узнав, что Конев уже в Берлине, и жестко приказывает 1-му Белорусскому фронту наращивать темпы наступления, отсекать соседей из 1-го Украинского, не давать им слишком рьяно двигаться к центру. И армия Чуйкова уже форсировала Шпрее, взяла Бритц и Нойкёльн и сама старается не отставать от 5-й ударной, уже подошедшей к Трептов-парку…
Никто не знал, что происходит вокруг и когда кончится эта чертова улица. Мир сузился до размеров одной дороги, заваленной сломанными деревьями, обломками бордюров и дорожного покрытия, сгоревшими трамваями, автомобилями, танками, покойниками… Теснились руины; чтобы забраться в дома, приходилось карабкаться по горам бетонных и деревянных конструкций, битым кирпичам… И штрафников продолжали убивать. Повалился увлекшийся атакой Овсеенко; санитар, придерживая бьющую по ногам сумку, бросился к нему, но помочь уже не смог.
– Такой тандем разрушился, – пробормотал наблюдавший эту картину Бугаенко.
Впрочем, и Антонов долго не прожил – высунулся из-за разбитой капители, чтобы бросить гранату в окно, и рухнул, продырявленный очередью. Асташонок метнулся, схватил выпавшую гранату за секунду до взрыва, метнул-таки в окно, где засел снайпер… Больше никто не пострадал, но Антонов погиб.
Очередная огневая точка; оборонялись трое или четверо. Фрицы прижали наступающих огнем, не давали подняться. Максим перекатился к крыльцу, юркнул в уцелевший подъезд. Левое крыло пятиэтажного кирпичного здания было разрушено в хлам, правое – еще хуже, а в центре сохранились несколько этажей, и даже стекла кое-где уцелели, и все это выглядело как-то сюрреалистично. Он махнул рукой, оказавшись в безопасной темноте: «Трое – ко мне!» Перекатился и ввалился в подъезд Борька – теперь он всегда был рядом, и Максим не возражал. Перебежав опасное пространство, примкнули еще двое из второй роты. Коренич подал знак капитану Кузину – мол, не губите пока людей, – и повел бойцов наверх. Они взлетели по уцелевшему фрагменту лестницы, перебрались в руины, проползли по обломкам, стараясь потише, опасливо обогнули зависшие над головой балки перекрытий, шаткие стены, способные упасть от легкого прикосновения…
Засевшие в засаде не ожидали, что на них навалятся сзади. Трое бойцов в мундирах дивизии СС «Нордланд» [5] дружно строчили из ручных пулеметов. Одному Богу известно, как долго они могли продержаться…
Под ногой скрипнул щебень. Обернулся эсэсовец с лоснящейся от пота физиономией, что-то гавкнул, проворно перебросил пулемет. Ударила очередь, зацепив неловкого бойца; он покатился за простенок с перебитой ногой. Остальные попадали, спасаясь. Борька чертыхнулся, оказавшись под «местным» завалом. Максим, уходя от пуль, потерял автомат, грохнулся на живот, вытянув руки, схватил пулеметчика за лодыжки и резко дернул на себя. Немец (или все-таки голландец?) повалился, охнув, и душевно впечатал Максиму подошвой в нос. От этого Коренич еще больше разозлился, злоба придала сил… Обернулись двое других, стали вытягивать пулеметы из амбразур. Максим схватил упавшего за грудки, поволок словно тряпочную куклу. Солдаты на улице, воспользовавшись затишьем, побежали дальше. Но в разрушенном здании царил кавардак. Пулеметчик строчил с колена. Эсэсовец, которого Коренич держал за грудки, успел перед смертью выплюнуть несколько нелестных слов. Максим швырнул его на пулеметчика – голландец на мгновение превратился в летучего, погреб его под собой. Живой выпутывался, Максим набросился на побледневшего второго. Отправил кулаком в нокаут – кожа на костяшках треснула, боль ошпарила. Избавившись от гнета мертвеца, пулеметчик сообразил, что лучше бы этого не делал: над ним завис страшный, как ночной демон, советский солдат с занесенным кирпичом. Эсэсовец трусливо закаркал, но успокоился на том свете. А Максим не мог остановиться, бил, распаляясь – расквасил лобную кость, крошил огнеупорным орудием содержимое черепной коробки, не догадываясь, что противник давно уже там…
– Ну все, довольно, увлекся ты, дружище, – Борька оттащил Максима от покойника, бросил, как куль с картошкой. – Отдохни, приди в себя, – поднял автомат и выстрелил в того, что отходил от нокаута.
Неловкий боец, подстреленный в ногу, поднялся и запрыгал к выходу, постанывая; его лицо выражало целую гамму чувств – от радости, что ранение не смертельное (госпиталь, снятие обвинения, восстановление в звании, мирная жизнь) до сожаления: ведь почти взяли окаянный Берлин!
– Смотрите, кого я нашел, этот гад не умеет прятаться! – из соседнего помещения, где повсюду громоздились обломки, боец второй роты тащил за шиворот упирающегося немца в рваном обмундировании.
Пинком отправленный в центр комнаты, фриц грохнулся на колени, взмолился на ломаном русском:
– Не убивать, пожалуйста… Я не СС, я не стрелять…
– Ах ты, гад! – ярость еще не выветрилась, Максим вскочил, подобрал свой автомат, вскинул, чтобы добить эту нежить.
Он старательно прицелился в умоляющие, плачущие глаза немца средних лет – худого, с дряблой куриной шейкой, какого-то недокормленного, плешивого, вовсе не опасного. И не выстрелил.
– Да ладно, оставь бедолагу, – отмахнулся Борька. – Он действительно не эсэсовец.
– Да, я есть не СС! – визгливо выкрикнул немец, вздохнул с облегчением, видя, как изможденный «рус» опускает автомат, и вновь залопотал, дабы у того не появилось шанса передумать. – Я есть даже не вермахт, рабочий батальон, мобилизовать, понимать, да?.. Я… о, майн гот, как это русский… Я есть полизэй… младший инспектор уголовная полиция, найн политика, найн… Мобилизовать… – повторял он как попугай. – Мобилизовать… Посадить с эти фанатики… – он тыкал трясущимся пальцем в трупы. – Я не хотеть стрелять… Нас быть три… два уже сбежать… Мартин Гюнтер и Пауль Безелер… Я тоже хотеть спрятаться, я не фанатик, я не СС… У меня двое дети и один жена… Я ненавидеть Гитлер, я ненавидеть СС, они убить моя сестра два года назад – она дружить с евреем в Краков… Она быть фольксдойче, но все равно не пощадить, расстрелять…