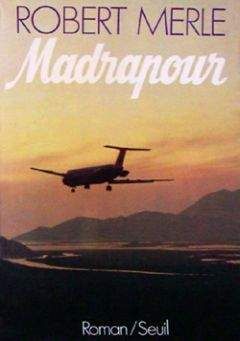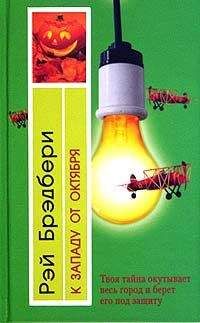Сергей Бетев - А фронт был далеко
Зачинщиков хулиганства хотели найти сразу. Почти до утра то из одного, то из другого двора вырывался на улицу ребячий вой. Шло следствие. Перепоров для порядка всех «вояк», купавинцы успокоились.
А над станцией, перекрывая сиплые свистки паровозов, уже летел утренний крик ляминского петуха…
4
Шутку купавинцы любили. И хоть на выдумки были не шибко горазды, смех для себя добывали.
Иной хозяин припозднится домой, откроет калитку на виду у сумерничающих соседей, а на него повалится лохматая метла, похожая на черта. И дюжий мужик шалеет от страха.
А кругом смех. И обижаться не положено.
…Доберутся бабы до семечек, вынесут на улицу скамейку, поплевывают и чешут языки дотемна. Подкрадется к ним кто-нибудь из мужиков, ухватит скамью за торец и перевернет. Взвизгнут пугливые, опрокинутся так, что запутаются в собственных подолах. А потом отдышатся от испуга и сами хохочут над собой до колик. Как тут рассердишься, если мужикам поиграть захотелось?
Да и мужики-то, самые серьезные люди на Купавиной, тешились иной раз, как ребятишки. Закурят после работы возле ремонтной, лениво толкуют про минувший день. А найдется какой-нибудь неказистый, ни с того ни с сего дернет с земли двухпудовую гирю, поставит утычью в стену, подержит с полминуты, а потом отбросит в сторону и руки отряхнет.
— Эх, дурь-то покоя не дает! Не наробился… — усмехнется другой, посолиднее.
— А ты попробуй, — задирает первый.
— Чего тут пробовать-то? — ответит, выплюнет цигарку, придавит сапогом и отвернется.
— Знамо дело, плюнуть легче… — не сдается первый. — А ты приткни, приткни гирю-то к стене. Слабо.
Тут уж и других любопытство заберет. Вынудят здоровилу взяться за гирю. Поднимет он ее с земли, как пустую консервную банку, ткнет в стену, а гиря, проклятая, скользнет вниз так, что отскочить заставит, если ног жалко.
И пойдет потеха. Мужик здоровый, на спор, бывало, ту же гирю по тридцать раз вверх подбрасывал и ловил на лету, а к стене прижать — силы нет. Хохот стоит на всю станцию! Детина приходит от этого в ярость. Долбит двухпудовкой стену так, что она вот-вот обвалится. А гиря все равно не слушается.
— А ну, бери еще раз! — рявкнет на зачинщика. — Мухлюешь, хитрая рожа.
— Да что ты! — ласково отзывается тот. — Пожалуйста.
И гиря, как заговоренная, снова прилипает к стене.
— Да что это — язвить ее! — рычит вконец посрамленный верзила.
И под слезный смех мужичьей оравы принимается сызнова изматывать себя…
Но в Купавиной все было, как везде.
И зависть жила.
И сплетня который раз жалила пуще крапивы.
Да и при шутке, если она переступала свой предел, дело доходило до больших и долгих обид.
Никто не принял за шутку и ребячье посягательство на Афоню.
— Человека при службе обидели.
…Афоня же, как и прежде, ждал по утрам «сдачи замков». Как и прежде, заворачивали к нему бабы, чтобы попотчевать свежим молоком. Но если поблизости Афониной сторожки подвертывался под руку отцу или матери кто-то из ребятишек, то непременно получал подзатыльника: это Афоне высказывалось душевное участие. Ибо у купавинцев, судивших обо всем по себе, и сомнения не было, что мается он смертной обидой.
Что касается самого Афони, то не прошло и недели, как возле его сторожки снова загалдела малышня. Сначала робко, от виноватости, а потом шумно и весело, оттого что боязнь потерять дорогую дружбу прошла. И этот мир был таким добрым, что недавние Афонины обидчики забыли и про свою войну, и про бдительность: даже Гешкин броневик стоял возле сарая без всякой охраны. Отлегло от сердца и у старших купавинцев, которым, по совести сказать, до смерти надоело тратиться на подзатыльники.
Как и прежде, в теплые дни, в положенный час Афоня выносил из сторожки свою табуретку. Только место четушки и «наперстка» на ней прочно заняли вместительный чайник и эмалированная зеленая кружка. Приметливые купавинцы долго обмалчивали такую перемену.
Сколько бы они молчали еще — никто не знает. Но однажды машинист дядя Ваня Кузнецов, в дни получек непременно обзаводившийся в магазине поллитровкой, поздоровался с Афоней, присел к нему на чурбачок и поинтересовался:
— И что это ты, Афоня, за питье себе выдумал?
— Чай, Иван Артемьевич.
— Как я понимаю, так это вода. Только горячая. Конечно, запах, так сказать… и брюхо нальешь. А меня вот, положу руку на сердце, на него не заманить.
— А здря, — внушительно возразил Афоня. — Неужто ты, Иван Артемьевич, и не знаешь, что чай — это самый благородный напиток? Даже цари знаменитые его употребляют. Индийские, к примеру. Их еще магараждами зовут. Давным-давно в старорежимном журнале «Нива» я читал, что эти магаражды по сто годов живут. Да еще до последу в шахматы играют. А все из-за него, из-за чая. А ты как думал?!
— Хм! А ежели праздник? — усмехнулся дядя Ваня. — Ежели ко мне гости придут? По-твоему, выходит, я должен с ними в шахматы играть? — И, подумав, полюбопытствовал тут же: — А в той «Ниве» не написано, магарожии те с чаю на гармошке не играют?
Афоня вытер белой тряпицей вспотевший лоб и, отхлебнув из кружки, взглянул на дядю Ваню:
— В сторону ведешь, Иван Артемьевич.
— Да что ты, Афоня! — весело запротестовал тот. — Я же не против чая-то. Только я к тому это, что при хорошем настроении да в праздники от чая не повеселеешь.
— А что же тебе для веселья требуется?
— А вот.
Дядя Ваня отвернул полу двубортного пиджака, показал сургучную шляпку бутылки. Афоня равнодушно скользнул по ней взглядом.
— Обман это, Иван Артемьевич. Обман. — Он подлил в кружку свежего чая и сказал убежденно: — Если хочешь знать, от водочки, брат, весь непорядок, вся дурь человеческая происходит! И беды тоже. А ты как думал? — И, остановив жестом готового возразить дядю Ваню, продолжал: — Ты оглядись вокруг себя, Иван Артемьевич, перебери памятью нашу Купавину. В ней ведь и народу-то — табунишко так себе, а все равно сразу видно, кто в душе с поллитровкой в обнимку ходит. Конечно, поскольку народу трудящему первым делом работать положено, выпивать ему каждый день утомительно, так как похмелье одолеет, а расценки-то — они сдельные… Оттого, может, у нас никто еще до безобразного состояния не дошел… брюхо — оно тоже руководитель. А если поглядеть с последственной стороны? Выявляется очень даже разная картина…
Афоня на минуту отвлекся от разговора к чайнику, а потом заговорил снова:
— Не мне тебе говорить про Степана Лямина. Мужик всю свою жизнь денно и нощно в труде, ударником всю дорогу числится и безотказный ко всякой людской просьбе. А как только похвалят его на собрании или праздник наступит какой, хоть казенный, хоть престольный, так он сразу раным-ранехонько скачет на своем батоге в магазин, чтобы, значит, обзавестись питьем. Того не понимает, что потом по причине его веселья у всей Купавиной в носу вертит. А секрет коренится где? — спрашивал Афоня. И сам отмечал: — В его бабе Анисье. И понять это очень даже легко Известно, что Степан водочку употребляет не дома, а в конюшне, в своей, значит, компании, с лошадями. Они животные тоже трудящие и смирные. А дома Анисья, при ней обороняться надо. Потом уж, после своего причастия, когда до красной отметки достанет, Степан прибывает домой. С Анисьей — а баба она, как знаешь, вредности, невероятной, — конечное дело, начинается баталия. Степан, как может, ее агитирует, а какой из выпившего человека агитатор?.. Вот и получается на следующий день картина: Степан опять к лошадям, а его распрекрасная Анисья со своей неизрасходованной злостью — по станции, по людям: кого лягнет, кого укусит, кого облает… Да что говорить!.. — И, поставив пустую кружку на табуретку, твердо закончил: — А если бы Степан взял себя в полную трезвость, разве не хватило бы у него толку свою бабу обнамордить? Определенно хватило бы. И люди бы за это ему медаль выхлопотали. А ты как думал?
Афоня расстегнул ворот рубахи, облегченно вздохнул.
— Да разве одного Степана эта лихоманка с линии сбивает? — размышлял он. — Нагуман Садыков вон, постарше его, а в какое затмение впал! Ребят, как веников на зиму, изготовил, не сосчитать. Люди, значит, судачат, что они с Альфией после получки свою горемычную жизнь скрашивают. А какое же это, с позволения сказать, облегчение, ежели потом вся ихняя домашняя артель, кроме малой, которая возле титьки материной, голодом сидит? Из-за кого? Из-за водки опять же. Ведь для нее, окаянной, только первый рупь из получки выдернуть — и пиши пропало. Одна бутылка — шесть буханок хлеба, шутка сказать! При своем-то молоке только с этим вся бы семья два дня сытая прожила. А Нагуман с Альфией меньше двух бутылок враз не берут… Ну, хорошо, коли хлеб нынче не задача, ты на мясо переведи: два дня без приварка выходит. Не меньше. Вот какая арифметика получается. А ведь получек-то в месяце две. Значит, и недостачу в брюхе множь. А ты как думал?!