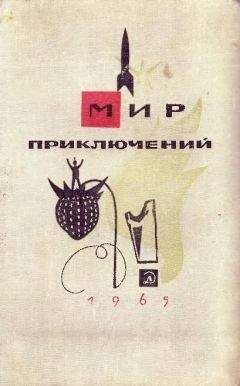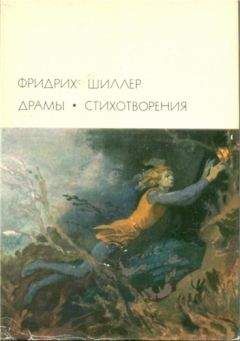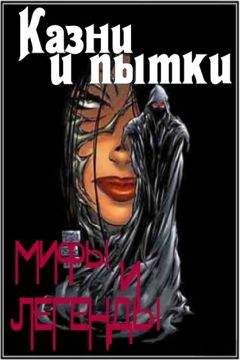Норберт Фрид - Картотека живых
У ворот стоял совершенно голый человек. Длинный. костлявый, кожа да кости, с посиневшим грязно-белым лицом, которое резко выделялось на фоне белого снега. Лицо и остриженная голова поросли черной щетиной. Узкая слабая грудь была еще белее лица. На ладонях и ногах запеклась кровь.
— Господи боже! — воскликнул баварец-часовой и перекрестился, хотя, как эсэсовец, давно не принадлежал ни к какой церкви. Он взглянул на землю, чтобы убедиться, что фигура у ворот не призрак, и увидел ясные следы ног на снегу. Следы были кровавые. — Господи боже! — еще раз прошептал часовой.
По лагерю тем временем прокатилось беспокойное «Achtung!» Встревоженный Эрих выскочил из конторы.
— Ну, что там еще? Они ведь говорили, что придут в полдень, а сейчас только…
Капо у ворот молча махал ему рукой: скорей сюда. Эрих побежал, дыхание паром вырывалось у него изо рта, на бегу он снял стальные очки, на которые налипли снежинки, и поспешно протирал стекла. «Что случалось?»
Голый человек у ворот еще раз поднял кулак, очень слабо стукнул в ворота и сказал: «Пустите меня домой!» — потом упал в снег и больше не шевелился.
Писарь взялся за ручку и открыл ворота. Немец-часовой по ту сторону ворот знал, что писарь вправе в любое время дня выйти из лагеря в комендатуру, но сейчас, ошеломленный случившимся, сорвал с плеча автомат и прицелился в Эриха:
— Halt! Zuruck!.
Писарь злобно стиснул зубы, но повиновался: у часового были такие ошалелые глаза, что он и в самом деле мог выстрелить. Ворота снова закрылись, часовой вынул свисток и пронзительно засвистел. Часовые на вышках встрепенулись, стволы пулеметов склонились в сторону ворот, из комендатуры выбежал еще один часовой, за ним Дейбель.
— Почему тревога? — на бегу кричал он. Одуревший часовой у ворот засвистел снова и только потом стал навытяжку и отрапортовал обершарфюреру о случившемся. Дейбель не растерялся.
— Удвоить караулы на вышках! Вся охрана — в ружье! — крикнул он другому часовому, а дежурному капо у ворот приказал: — Старшего врача сюда!
Капо повернулся направо кругом и заорал во весь голос:
— Старшего врача сюда!
Дейбель кивнул писарю, тот вышел за ворота и наклонился над голым мертвецом.
— Часовой говорит, что услышал слова: «Пустите меня домой!» пробормотал Дейбель. — Значит, он из нашего лагеря. Если он ночью удрал через забор, а ты утром в сводке не показал нехватки одного человека, излуплю, как собаку!
Через две минуты прибежал Оскар. Дейбель и писарь тем временем перевернули труп навзничь, ища на нем номер, но тщетно — ни на бедре, ни на предплечье номера не было.
— Мне надо бы вытянуть из него еще пару слов, — сказал Дейбель врачу. — Но, наверное, уже поздно.
Оскар стал на колени, приложил ухо к груди неизвестного и подтвердил предположение эсэсовца.
— Да, он уже не заговорит. А как он, скажите, пожалуйста, попал к воротам?
— Это и я хотел бы знать, — Дейбель выпрямился и закурил сигарету. Вы случайно не знаете, кто это?
Оскар и Эрих поглядели на неподвижное лицо мертвеца и покачали головой. Потом врач горстью снега отер кровь со ступней неизвестного и внимательно осмотрел их.
— Явно психически ненормальный, — пробурчал он. — Голый, перелез колючую ограду. Все ноги у него в глубоких порезах.
— Все-таки, значит, через ограду, — прошипел Дейбель. — Когда он успел? Наши часовые — хорошие лодыри, видно, им хочется на фронт. — И он бросил свирепый взгляд на вышки, куда спешно взбиралось подкрепление.
Оскар отер снегом руки мертвеца и грустными глазами посмотрел на его лицо.
— Убежать было, наверное, нетрудно. Для сумасшедшего это всегда легко, а особенно сегодня ночью: ведь ток был выключен, да еще затемнение…
— Ну, конечно! — Дейбель хлопнул красным кабелем по голенищу. — Как это я сразу не вспомнил! Огни были потушены, а часовые не включили ток в ограде, хотя во время тревоги работать все равно было невозможно. Обделались от страха… Ну, я им задам.
Оскар встал.
— Ты вполне уверен, что это наш заключенный? — спросил эсэсовец.
Врач поглядел ему в лицо. Взгляд Оскара сейчас не был грустным, скорее холодным и даже насмешливым. Он словно бы говорил: ты уже ничего не сможешь сделать этому мертвецу, тебе уже не расправиться с ним! Вслух доктор сказал:
— Не знаю, каково физическое состояние гражданского населения Баварии. Но надо полагать, что они еще не так отощали, как мы. Поэтому мертвый, очевидно, из нашего лагеря.
Эрих испуганно замигал, уверенный, что Дейбель немедленно ударит Оскара за такой ответ. Но спокойные слова врача удовлетворили эсэсовца, который думал. о том, что предпринять дальше, и не обратил внимания на иронический тон Оскара.
— Так, так. Значит, наш. А ты, писарь, еще числишь его в списках лагеря. Что скажешь на это?
— Нынешняя ночь была необычная, — забормотал Эрих. — Шли строительные работы, люди чередовались, ни один блоковый не мог с уверенностью сказать, все ли люди в его бараке налицо…
— А утром при раздаче кофе? И куда этот тип дел свою одежду? Ее тоже не нашли, а?
— Это еще труднее выяснить… Он мог сбежать одетым, а потом бросить одежду где-нибудь в лесу.
Дейбель закусил нижнюю губу.
— Ерунда… Однако и с такой возможностью нужно считаться. Часовой! быстро обернулся он к часовому, который все еще стоял, держа автомат в руке и глядя на то, что происходит у ворот. — Немедля послать Шпильмана с овчаркой по следам этого человека.
Потом Дейбель уставился голубыми глазами на писаря и высказал главную мысль, пришедшую ему в голову сразу же, как только он увидел мертвеца. К чему канительные допросы, осмотр трупа, сыщицкие приемы? Все это для бюрократов из уголовной полиции, у них на это есть время. Мы, эсэсовцы, решаем такие дела просто, напрямик, фронтальной атакой!
— Устроить общий сбор, писарь. Проверочный сбор! — сказал Дейбелъ, и его бледно-голубые глаза смеялись. — Я тебе покажу этот твой новый дух лагеря, я тебе покажу, что значит просить за моей спиной у рапортфюрера об отмене моих распоряжений! Фриц вчера не получил двадцати пяти ударов, потому что это, мол, перепугает господ заключенных! Порка, мол, неуместна в рабочем лагере! И распоряжение Дейбеля попросту отменяется! Но сейчас другое дело: сейчас налицо побег и злостная халатность писаря, который не сообщил об этом побеге в комендатуру! Тут уж конец сентиментам, тут выступают на сцену старые добрые привычки эсэсовца Дейбеля! Общий сбор, писарь! Все на апельплац, больные, мертвые, повара и писаря, я вас там всех пересчитаю! Сразу будет видно, кого и где не хватает и кому мы там же, на месте, влепим двадцать пять горячих. Общий сбор, писарь! Иди и объяви об этом, чтобы через пять минут все вы стояли тут передо мной в струнку! Марш!
Кабель щелкнул по голенищу, Эрих прохрипел «Jawohl» и побежал в лагерь. «Тысяча чертей, — бормотал он про себя, — вот я и влип! Мало нам было двух вчерашних неприятностей — стройки и истории с зубами! Мало нам того, что выпал снег! Alles antreten здесь: «Все на апельплац!», твердил он на бегу. — Уже с утра появление этого Лейтхольда не предвещало ничего доброго, но общий сбор — это хуже всего. Дейбель ополчился на меня. Из-за этого проклятого беглеца он может меня прикончить… а ведь у меня еще двое мертвых засекречены в бараках. Не выпутаться мне, ох, не выпутаться!»
Все на апельплац, все на апельплац!
Капо с дубинками в руках побежали по баракам сгонять людей на апельплац. Оскар нагнал писаря и ухватил его за рукав.
— Сейчас я за тебя, Эрих. Вижу, что Дейбель жаждет твоей крови. Все-таки ты выступал за лучшее обращение с людьми, потому он и озлился на тебя. Могу я помочь тебе чем-нибудь?
Писарь не был расположен обмениватьсся любезностями и хотел было огрызнуться: мол, отстань ты от меня, но вдруг его осенила счастливая мысль.
— Ловлю тебя на слове, Оскар, ты мне нужен. Ни о чем сейчас не расспрашивай, беги в тринадцатый барак и в двадцать седьмой, вели унести мертвых, которые там лежат, и, если понадобится, подтвердишь потом, что они умерли только что, после сбора. Беги!
Оскар сверкнул на него глазами: вот он, Эрих, весь тут, протяни ему палец, он тебе измажет всю руку своими грязными делишками. Но слово есть слово, Оскар молча повернулся и поспешил в тринадцатый барак.
В лагере начался переполох, такой же, как вчера, но на этот раз он казался еще большим, потому что всюду по щиколотку лежал снег, который все еще продолжал валить. У ста двадцати заключенных не было никакой обуви. Сколько было криков и стенаний, сколько побоев и брани, пока всех их не выгнали на стужу! Первое прикосновение босых ног к снегу обжигало, снег палил и щипал ступни, сколько ни подпрыгивали несчастные, сколько ни старались они стоять то на одной, то на другой ноге. Дерек страшно избил одного из них, поляка, поймав его на том, что тот потихоньку разорвал одеяло да полосы, чтобы обмотать им ноги. Голландец накинулся на него: