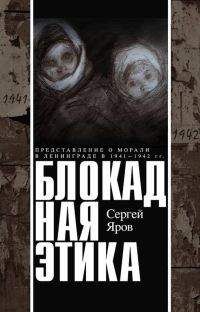Сергей Яров - Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг.
3
Обратим внимание на описания тех, кто смог разбогатеть в дни осады города. У этих рассказов немало общего. Отмечаются прежде всего такие приметы воров и спекулянтов, как бескультурье, хамство, какая-то барская снисходительность к изможденным блокадникам, зависимым от них. «Эта баба с ухватками и словарем кабака в это страшное время, в феврале 1942 г., нисколько не похудела, а приобрела еще более начальственный голос и стала, не стесняясь… никого ругаться матом» [501] – вот типичный портрет блокадного «нувориша»-управдома. Дневниковые записи интеллигентных эрудитов явно испытывают воздействие традиционных литературных образцов, в которых облик случайно разбогатевших «выскочек» отмечен особо пластично и ярко. Выделяются и подчеркиваются самые неприятные их черты, без оправданий и объяснений. Для В.М. Глинки, например, причиной неприязни к управдому оказывается даже не подозрение в воровстве, а именно вульгарность и презрение к тем, кто оказался на блокадном дне [502] .
Более беллетризованный и живописный рассказ о внезапно разбогатевшей работнице пекарни оставил Л. Разумовский. Повествование строится на почти полярных примерах: безвестность ее в мирное время и «возвышение» в дни войны. «Ее расположения добиваются, перед ней заискивают, ее дружбы ищут» [503] – заметно, как нарастает это чувство гадливости примет ее благоденствия. Из темной комнаты она переехала в светлую квартиру, скупала мебель и даже приобрела пианино. Автор нарочито подчеркивает этот внезапно обнаружившийся у пекаря интерес к музыке. Он не считает излишним скрупулезно подсчитать сколько ей это стоило: 2 кг гречи, буханка хлеба, 100 руб. [504] .
Другая история – но тот же сценарий: «Это была до войны истощенная, вечно нуждавшаяся женщина…Теперь Лена расцвела. Это помолодевшая, краснощекая нарядно и чисто одетая женщина!…У Лены много знакомых и даже ухаживателей… Она переехала с чердачного помещения во дворе на второй этаж с окнами на линию…Да, Лена работает на базе!» [505] . Описание внезапных перемен, произошедших с теми, кто оказался на «хлебных» местах, не лишено язвительной утрировки. Так быстро люди не меняются, и, наверное, не все изменялось к лучшему в их быте, но нараставшая неприязнь не позволяла рисовать более сложную картину. Путь к неправедному благополучию представлялся неизменно прямым, ярким в отвратительных подробностях и имеющим предсказуемый итог – иначе как сильнее выразить свое возмущение.
«Приходили какие-то простые бабы» – это воспоминания С. Готхарт о том, как она меняла вещи на хлеб [506] . Слово «бабы» тут, пожалуй, ключевое – даже интеллигент не может обойтись менее грубым словом, видя тех, у кого есть лишние продукты. «Мы не знали, откуда они… Думаю, что это были какие-нибудь кладовщицы или продавщицы» [507] – и так считали почти все [508] . К этим спекулянтам-ворам шли за куском хлеба, унижались перед ними и ненавидели их, ненавидели люто.
«Ох, жулики, негодяи. На неблагополучии других строят свое благополучие» – таким было отношение А.Т. Кедрова к тем, кто, имея 100–200 г хлеба, мог уйти с рынка «одетым с иголочки» [509] .
Л.П. Галько пришлось покупать на «черном рынке» хлеб (за 100 г – 35 руб.) и табак (за 100 г – 100 руб.). Государственная цена табака была 12 руб. И он не выдержал и в похожей на бухгалтерский счет его дневниковой записи появились такие слова: «Паразиты-спекулянты наживаются на народном бедствии. Это те же враги, что и фашисты, только те с оружием в руках, а эти греют руки на голоде, холоде» [510] .
Потому и не стеснялись, даже не имея веских доказательств, жаловаться на продавщиц и служащих столовых руководителям города, вплоть до А.А. Жданова. Рабочий 2-й Кондитерской фабрики буквально тянул за руку милиционера, чтобы он успел арестовать спекулянта на рынке, продававшего коробок спичек за 8 руб. Бездействие стража порядка вызвало у него возмущение: «Милиционер ответил, что меня это не касается, пусть каждый продает что ему угодно и за сколько угодно. Такой милиционер для спекулянта – находка» [511] . Женщины, стоявшие в очереди у магазина, по сообщению информатора, требовали: «Пусть общественность и милиция поинтересуются, откуда берут хлеб люди, продающие его целыми буханками» [512] . Наверное, отчасти и поэтому столь быстро привлекли к суду тех, кто самовольно вселился в квартиру погибшего писателя О. Цехновисера и присвоил его вещи, и не случайно незамедлительно сообщили об этом в прессе. Среди фигурантов постыдного дела оказались все те же управдом и милиционер [513] .
Эта ненависть упрочилась в сотнях «бытовых» разговоров с их непременным атрибутом – поиском тех, кто живет хорошо, и сравнением собственной нищеты с благополучием воров. В «смертное время» это стало шкалой нравственных оценок. Оправданиям не верили. Женщину, которая приводила ослабевших людей к себе домой и отогревала чаем, обвинили в том, что она хочет похитить их «карточки». Сообщившая об этом случае по радио О. Берггольц призывала ленинградцев быть терпимее, поощрять каждый проблеск благородства и сострадания – но, скажем прямо, во время блокады к такому поступку не могли не отнестись с подозрением.
Конечно, в этой жесткости, недоверии к другим, в попытках обнаружить везде и во всем обман было много несправедливого. Но ведь только так и укреплялся нравственный канон – в бескомпромиссности моральных правил и непререкаемости их соблюдения. Захочешь кого-то понять и оправдать – и чего тогда будут стоить эти постоянные обличения, это осознание, что ты выстоял до конца, а не сломался, как другие, не стал воровать…
И часто не имело значения, в каком положении находился человек, как он выглядел, сколько времени голодал.
Н.П. Заветновская в письме дочери рассказывала об одном профессоре, который взял у нее вещи, обещая обменять на провизию, и исчез: «Вот такие бывают профессора, воры и мошенники, а я его знаю лет 30 и не ожидала от него такой подлости и мерзости» [514] . Даже по ее письмам, пристрастным и гневным, можно догадаться, до какой степени распада дошел обманувший ее человек: опустился, не стеснялся унижаться, ел кошек… Жалости у нее нет: от письма к письму ее оценки становятся более хлесткими и уничижительными. Всем тяжело, но кто-то терпит, а кто-то не гнушается обманом. Вскоре профессор умер, но простить она его не хочет и не может: «Будто… умер, я не верю, оказался большим подлецом» [515] . Иного приговора и быть не могло. Он не просто, изловчившись где-то в столовой, разжился хлебом. Он обокрал ее лично – такую же нуждающуюся и изможденную. И он знал, как она голодна – и обокрал. И чтобы ярче выразить свою ненависть, его омерзительный облик должен быть обязательно цельным. Смутное свидетельство о смерти обидчика только мешает безоговорочно резкой оценке его поступков.
Девушка, укравшая «карточки» в студенческом общежитии ЛГУ, несомненно, тоже была голодной – но те, кто узнал об этом, отвернулись от нее и отказались жить с ней в одной комнате [516] . А.И. Кочетова жаловалась матери на бабушку, которая рассердилась, увидя на внучке шарф, взятый из гардероба тети: «Она меня как только не ругала. Она меня в шарфе встретила на улице, дак заставила на морозе снять… Она меня воровкой обозвала» [517] .
Не сразу и не у всех размылось в «смертное время» это чувство стыда за то, что они взяли чужое. B.C. Люблинский, упрашивая домработницу не бояться менять на его вещи хлеб, «постращал» ее тем, что домашний скарб все равно «растащат», если кто-то из них умрет, что жена (находившаяся в эвакуации) не простит, если узнает о его скупости – одного довода оказалось мало. О. Берггольц заметила, с какой гордостью говорил ее отец о том, что в больнице, где он работал, никто не ворует [518] . Очевидно, так было не везде и не всегда – тем настоятельнее являлась потребность подчеркнуть свою порядочность. И многие находили в себе силы удержаться от соблазна и не ходить в «выморочные» квартиры, и не только потому, что опасались быть застигнутыми врасплох.
Многие – но не все. Тысячи людей оказывались в таких условиях, что не воровать они не могли. Особенно часто это проявлялось при поиске дров. Власти даже и не пытались на первых порах снабдить дровами частные дома, не имевшие центрального отопления – надеялись, что их жильцы придумают что-нибудь сами. «Так вот ползимы… прожили, где дощечку, где полешко», – отмечал X. Эзоп, видевший, как взламывали сараи и крали оттуда дрова, уносили целиком двери и стены [519] . «Это не считается позором или воровством» [520] , – так думал, наверное, не он один. Добыть дрова и для себя, и за вознаграждение для других старались любым путем, не брезгуя ничем, даже мебелью уехавших соседей [521] . «Те дома, что вчера пострадали от бомб, сегодня люди разбирают на дрова. Сбежались как муравьи», – записывал в дневнике И.И. Жилинский [522] . Самому ему не повезло, о чем он говорит с горечью – у разбомбленных домов поставили сторожа.
4
Удержаться от соблазна было тем труднее, что могли оправдываться не поиском личной выгоды, а желанием спасти угасающих родных и близких. «Дядя Ваня угостил бы тебя», – сказала мать шестилетней дочери, взяв ложку вермишели из запасов, предназначенных для лечившегося в госпитале их родственника [523] . И ожидали даже услышать упреки за то, что не воспользовались счастливым случаем. Выдавая хлеб Т. Максимовой, продавщица в булочной обсчиталась и, вырвав талон на однодневный паек, отдала двухдневный пайковый рацион. Вернуть талон или пойти в другую булочную и взять на оставшийся талон еще хлеба? Сделать выбор было для нее очень трудно. Это не позднейшая попытка приукрасить себя. Она честно говорит, как нелегко было принять морально приемлемое решение. Время – самые страшные дни второй половины декабря 1941 г. Дома лежали обессилевшие от голода мать и сын. Пожалуй, она могла бы оправдаться тем, что продавщицы живут лучше, чем другие, но не делает этого. Сыну и матери она ничего не сказала, очевидно, понимая, что не всякий бы одобрил ее поступок [524] .