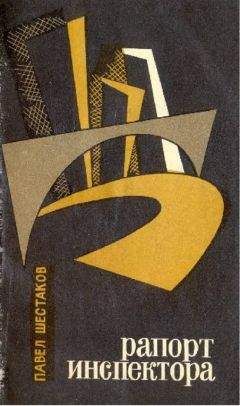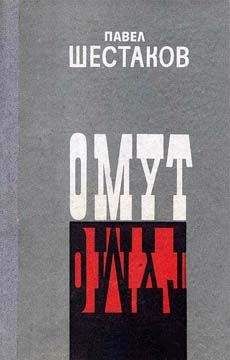Павел Шестаков - Взрыв
— Я видел эти картины, — прервал Сергей Константинович, подозревая, что нарвался на любителя поболтать с «живым» кинорежиссером.
— Конечно же, конечно, кто же их не видел! Но я о другом. Гитлеровское нашествие нарушило мирный труд советских людей. Война принесла нашему народу неисчислимые бедствия. — Он наклонился к сидящему режиссеру и произнес эти газетные слова негромко и доверительно. — Но пострадали не только те, кто погиб. Некоторые остались жить, однако не для радости жизни, а для новых испытаний.
— Вы имеете в виду себя?
— Так точно.
— Как вас зовут?
— Огородников Петр Петрович. Русский всей душой. Не знал иной родины, но имел несчастье родиться от смешанного брака. Покойная мама происходила из немецких колонистов. Мама хотела видеть меня образованным человеком и, на беду мою, выучила меня их языку…
— Немецкому?
— Так точно. И когда фашистские захватчики ворвались в наш родной город, я был мобилизован, то есть под страхом неминуемой смерти… — Огородников смолк, с опасением поглядывая на режиссера, но Сергей Константинович ждал продолжения, — …принужден служить переводчиком.
— Понятно. Где вы служили?
Наверно, Огородников предпочел бы назвать любое другое учреждение, однако тогда терялся весь смысл его визита, и он, заранее решившись, сообщил:
— Меня принудили работать в гестапо.
Сергей Константинович опустил руку с сигаретой, и пепел упал на ковер. Впервые в жизни видел он человека, работавшего в гестапо, и этот человек выглядел до пошлости обыденно — обыкновенный пенсионер из добросовестных мелких служащих, в одежде, сшитой на какой-то провинциальной фабрике, затоваривающей из года в год торговую сеть безликой продукцией.
— Нет-нет, вы не подумайте! Я не имел никакого отношения к зверствам. Меня прикрепили к отделу, который занимался, так сказать, делами внутренними — охрана высокопоставленных офицеров, работа с печатью… Выходила тут, знаете, газетка… Да и в этом отделе кто я был? Винтик, передаточный механизм…
— Что же с вами произошло потом?
— При первой же возможности я бежал, передал себя в руки наших властей и чистосердечно старался искупить…
— Каким образом?
— Видите ли, вы человек еще молодой… Время было суровым. С людьми не всегда поступали справедливо.
— И с вами тоже?
Впервые с начала разговора Огородников проявил нечто вроде твердости:
— Позвольте быть искренним — считаю. Суд не принял во внимание обстоятельств, смягчающих мою вину. Вернее, я не смог доказать… И вот пришлось трудом на благо Родины искупать в местах отдаленных. Но трудился добросовестно, что и в документах отмечено, и двадцать уже лет, как с несчастным прошлым покончено и имею право честно смотреть в глаза…
— Сколько вы просидели?
— Десять лет.
«Ого! — подумал режиссер. — Десятку отгрохал да после уже двадцать с лишним прошло. С ума сойти! Когда ж эта война была?!»
— Так зачем вы пришли?
— Я уже докладывал. Как очевидец могу быть полезен…
Сергей Константинович сдержал усмешку. Он представил себе строчку в титрах: «Консультант — гестаповец Огородников».
«Забавный старик…»
— Вы хорошо помните эти события?
— Такое, товарищ режиссер, не забывается. И я считаю долгом… Бескорыстно, само собой… Исключительно в интересах истины я обязан сообщить вам то, что не мог доказать в свое время следствию, — я оказывал посильную помощь подпольщикам.
Режиссер сунул окурок в пепельницу.
«Кто он в самом деле? А если правду говорит? В жизни всякое случается…»
— И вы хотите в некотором роде реабилитироваться с нашей помощью?
Огородников замахал худыми маленькими руками:
— Что вы! Что вы! Я уже старый человек. Двадцать лет безупречной репутации. Государство наше великодушное, народ добрый. Никто меня прошлым не попрекает. Но истина важнее всего. Ведь искусство должно быть правдивым?
— Несомненно.
— Вот и я исключительно в интересах правды. Я ведь видел, знал тех, о ком вы картину снимаете.
— И Шумова. знали?
— Конечно. То есть не непосредственно, конечно. Он был руководитель. О его подлинной роли только после войны узнали. Но были другие, через которых я держал связь. Устно, к сожалению, без документов, но, сами понимаете, какие ж тогда документы? Конспирация…
Режиссер потер ладонью вновь вспотевшую грудь.
— Знаете, рамки нашей работы, собственно, уже определены… Но если потребуются какие-то детали, уточнения… Мы обратимся к вам. Оставьте ваш телефон.
Огородников замялся:
— Я остановился в Доме колхозника.
— Значит, вы не в городе живете?
— Нет. Я приехал.
— Специально приехали?
— В интересах истины.
— Спасибо. Мы повидаемся. Я подумаю, чем вы можете быть вам полезны.
— Благодарю покорно. Доверие оправдаю, не сомневайтесь.
Режиссер подумал, протянуть ли руку Огородникову на прощание, но тот и не рассчитывал на такое признание. Почтительно кланяясь, он боком выскользнул за дверь, оставив Сергея Константиновича в затруднительном раздумье — с одной стороны, появление живого очевидца отвечало его стремлению глубже понять, осмыслить происходившее, с другой — гестаповец Огородников?… Как-то несуразно. Божий одуванчик… Он снял телефонную трубку и набрал внутренний гостиничный номер.
— Светлана?
— Да. Что-нибудь произошло? Я отдыхаю от жары.
— Я зайду к вам на минутку. У меня тут один странный человек побывал.
Светлана лежала в постели, укрывшись простыней, с книгой в руках. Когда Сергей Константинович вошел, она натянула простыню до щей и посмотрела на него вопросительно:
— Что же стряслось?
Но ему вдруг расхотелось говорить об Огородникове. Присев на кровать, режиссер вынул книгу из руки Светланы и положил ее на пол.
— От жары действительно обалдеть можно… А персидский поэт сказал, что в зной лишь бедра девушек сохраняют прохладу. Так ли это?
— Не помню. Он ведь писал о девушках, а у меня, как вы знаете, взрослая дочь.
— Я очень нуждаюсь в прохладе…
Светлана вздохнула.
— Тогда, пожалуйста, пойдите и поверните в дверях ключ. Не все вас могут правильно понять.
Лаврентьев не слышал, как вернулся Сергей Константинович и как он беседовал с Огородниковым. Усталость взяла свое, и он заснул и проспал довольно долго, до позднего вечера, когда в гостиницах становится особенно шумно. Шум и разбудил Лаврентьева. Было темно, вставать уже не имело смысла, но и заснуть снова не удавалось. У соседей царило оживление. Голоса проникали и через стенку, неразборчиво и глухо, и особенно из лоджии — отчетливо и громко. Лаврентьев вспомнил предостережения женщины-администратора. «Попросить другой номер?» — подумал он, невольно прислушиваясь к голосам.
Один голос он узнал сразу, красивый, артистичный, голос девушки, с которой летел в самолете. Очевидно, ее допустили наконец к режиссеру. Но говорила она не с Сергеем Константиновичем, а с человеком, которого, как мог поручиться Лаврентьев, он не слышал еще в этом городе, хотя и его голос казался знакомым.
— Кто же ваш учитель в студии? — спросил этот полузнакомый мужской голос.
Девушка назвала фамилию.
— Знаю, знаю, — насмешливо откликнулся собеседник. — Помню, лет тридцать назад он кота играл в «Синей птице». Выходил на сцену с ушами такими и хвостом…
Наверно, он показал уши и хвост, потому что актриса расхохоталась, но сочла нужным вступиться за педагога.
— А вам разве не приходилось играть животных? Или озвучивать хотя бы?
— Не отрицаю. Грешен. Однако приличных животных. Льва, например, тигра. Ну, крокодила на худой конец. Но не кота ж ничтожного…
Теперь Лаврентьев понял, откуда ему знаком этот голос. Говорил очень известный актер. И не только по мультфильмам, о которых шла речь. Много лет он исполнял ведущие роли в театре и кино, и Лаврентьев подумал, что эта девочка могла бы разговаривать с ним более уважительно.
— А почему вы согласились на такую маленькую роль? — спросила она.
— Я вас не устраиваю как партнер?
— Вообще-то, да, — ответила она прямо. — Боюсь, меня рядом с вами никто не заметит, а это моя первая роль.
— Не бойтесь, — ответил актер серьезно, меняя шутливый тон. — Не бойтесь, и все будет в порядке.
— Вы меня убедили, — снова засмеялась она. — А почему все-таки? Только не говорите, что маленьких ролей не бывает. Нам об этом все уши прожужжали.
— А всем хочется больших ролей?
Опять послышался смех.
— Конечно.
Чувствовалось, что она довольна тем, что запросто беседует с прославленным коллегой.
— Так вот, милая девушка, я эту роль малой не считаю.
— Правда?
— Правда. А как же иначе? Сыграть отца, у которого погибает единственная любимая дочь, это, по-вашему, маленькая роль?