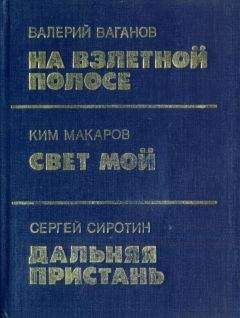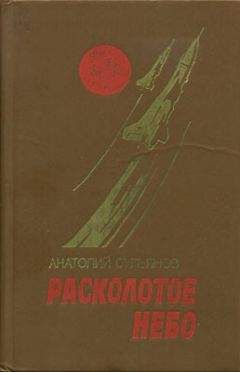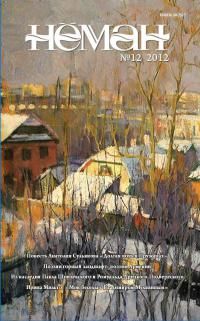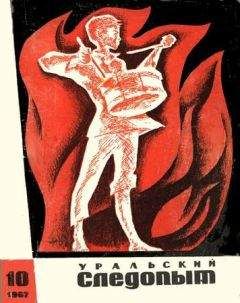Виктор Костевич - Подвиг Севастополя 1942. Готенланд
– Не очень внимательно.
– Я напомню. Представьте себе следующую констелляцию. Отец – тиран и самодур. И три его сына – три совершенно не похожих на первый взгляд типа, которых объединяет то, что они русские. Один, что называется, в отца, хотя всё же несколько лучше. Его зовут Дмитрием. Бабник, греховодник, игрок, буен и смел, порой до безумия. Если увлечется, может наделать бед, но потом станет искренне каяться. Другой, Иван, холоден, расчетлив, на пути к своей цели не остановится ни перед чем, но каяться не станет, всегда найдет оправдание и обоснование собственной подлости, которая окажется и не подлостью вовсе, а чем-то правильным и нужным. Для Достоевского он человек западного типа, что вовсе не означает его нерусскости, это тоже русскость, но, так сказать, в извращенной форме, результат порчи, которой подверглось, с точки зрения автора, русское общество в результате ненужных заимствований. Третий – Алексей. Смиренный, богобоязненный, готовый простить всех, но твердо стоящий на неких нравственных принципах, ко всему еще и монашествующий. Некий идеал, возможно – импотент. Ну, а рядом с ними – четвертый. Незаконнорождённый Смердяков. Фамилия говорящая. Понимаете, что она означает?
– Я ведь почти не знаю языка.
– «Смердеть» – старинное русское слово, значит «вонять, дурно пахнуть». Оно, в свою очередь, происходит от еще более древнего слова «смерд», то есть «зависимый человек, холуй, холоп» – по крайней мере, во времена Достоевского оно понималось примерно так. И вот этот Смердяков, лакей в доме собственного отца (оцените изящество мысли прозаика), являет собой всё самое отвратительное в русском характере. Он способен сделать то, о чем подленький, но умный, правильный и осторожный Иван может только робко подумать. Для него не свято ничто. Ни семья, ни принципы, ни вера, ни родина, наконец. Он прямо так и говорит, с гордостью: «Я всю Россию ненавижу». Неплохо сказано, а? Этакое богоборчество на русский лад. И он же о нашествии Наполеона: было бы хорошо, если бы умная нация покорила весьма глупую. В конце концов Смердяков, истолковав по-своему и в общем-то правильно намек «западного человека» Ивана, убивает отца. Дмитрий идет за это на каторгу. А Алексею остается лишь негодовать, прощать и каяться в чужих грехах. Правда, интересно?
– Мрачноватая история, – проговорил я, глядя в открытое море. Оно было пустынным, совсем не таким, как под Керчью. Лишь далеко в стороне, у причалов морского порта, стояли немногочисленные немецкие катера, скорее моторные лодки, а также несколько кораблей, брошенных русскими при бегстве во время январского штурма. Пустынной была и набережная – почти никого, кроме нас, только военные патрули и укрытые маскировочными сетками расчеты зенитных орудий, грозно уставивших ввысь стволы, темневшие на фоне вечернего неба.
– Но назидательная, – сказал Грубер. – Мне порой кажется, что русские бьют все рекорды по проценту людей, ненавидящих свою страну. И этим рейх умело пользуется. Смердяков – такой союзник, которому поистине нет цены. И которого мало где найдешь в таком количестве.
Я не спешил соглашаться.
– Коллаборанты есть везде. Во Франции их больше.
– Тут имеется множество качественно иных коллаборантов, совсем не похожих на французов или, скажем, голландцев. Французский коллаборационизм зачастую трудно отделить от повседневной практичности. Иногда перед нами предательство, но чаще всего лишь факт, что жизнь продолжается. Надо печь хлеб, обеспечивать насущные нужды, предоставлять работу и минимум развлечений. Короче, делать так, чтобы работали театры, рестораны, кафе, магазины. Для получения разрешения на это вовсе не требуется предавать соотечественников. Война проиграна, но Францию никто не уничтожает. Более того, она наш союзник.
– Но Россию, как я понимаю, тоже не уничтожают.
Мы дошли до края набережной. Дальше на довольно большом пространстве расстилался галечный пляж, отделенный от городских построек пробегавшей чуть выше железной дорогой. Грубер остановился и, насупившись, заложил руки за спину. Расположившиеся неподалеку зенитчики с любопытством поглядывали на двух нетрезвых господ, одного в офицерском мундире, другого в летнем штатском пиджаке. Если бы они еще догадывались, о чем мы говорим…
– Не лукавьте, Флавио. России больше не будет. И те, что по-настоящему служат нам, не могут о том не догадываться. Тем более что война продолжается и каждый день гибнут тысячи их соотечественников. Очень часто на их же глазах. Нередко от их собственных рук. Нет, это совсем другое. Душевная болезнь.
Я ответил не сразу.
– А разве нельзя сказать, что это наследие кошмарной русской революции, кровавой гражданской войны и раскола, поразившего русское общество? Массовые убийства, взаимная ненависть, сведение счетов. Множество обиженных и озлобленных людей, лишенных коммунистами элементарных человеческих прав.
– Можно. Но ведь и гражданская война порождена, на мой взгляд, всё тем же Смердяковым… в соавторстве с Иваном Карамазовым. – На лице Грубера мелькнула его обычная ироническая улыбка. – Никак не объяснить всего нерешенностью аграрного, рабочего, национального или даже еврейского вопроса. Здесь иное – ненависть к самим себе в сочетании с искренней верой, что лично ты всё же лучше других и можешь, убив ближнего или, например, разрушив свою страну, сделать мир счастливее и богаче. Отсюда большевизм – я имею в виду ранний, нынешний декларирует свой патриотизм. Отсюда неуклюжая национальная, а на деле антинациональная политика. Отсюда красный террор.
– Разве Смердяков и Иван стремились сделать мир счастливее и богаче?
– Верное замечание. Но Смердяков – это, так сказать, безыдейная форма болезни. Идейная описана в другом романе, «Бесах». Не читали?
– Нет.
– Любопытнейшая вещь. Вернетесь в Италию, займитесь на досуге, местами скучно, но постепенно втянетесь. Детектив à la russe. Большевики оценили Достоевского по заслугам. Было время, его хотели изъять из публичных библиотек. О существовании «Бесов» вспоминать не принято до сих пор, иначе возникнет вопрос: почему сочинения контрреволюционера не запрещены вообще, а тех, кто занимается их изучением, поголовно не расстреляют?
Нельзя отрицать, что беседы с Грубером бывали порой в высшей степени познавательны. Мне было бы интересно узнать его мнение о психологическом состоянии Германии. Но я не стал его спрашивать о подобных вещах.
Между тем зондерфюрер продолжил, задумчиво глядя на волны, неторопливо набегавшие на кромку лежавшего под нами пляжа.
– Впрочем, какая разница, запрещен, разрешен… Время Достоевских прошло. Вы ведь обратили внимание – я сказал: России больше не будет.
Он смотрел на меня в ожидании ответа. Мне показалось, я смогу помочь ему точнее выразить мысль.
– Я понимаю вас, Клаус. Небольшое преувеличение с целью сделать суждение острее и отчетливее.
Зондерфюрер поводил головой из стороны в сторону, словно бы ворот давил ему на шею.
– Никакого преувеличения, Флавио, – ответил он строго. – России действительно не будет. Никогда. Ее не должно быть. Она не нужна Европе. – Грубер сделал паузу и расстегнул воротник. – Если бы вы знали, какие сейчас разрабатываются планы по сокращению народонаселения на Востоке, поощрению германской колонизации и окончательному вытеснению монгольских русских орд с Европейского континента… – Он опять посмотрел на меня, будто бы опасаясь, что я заподозрю его в этнографическом невежестве. – Только не подумайте, ради Бога, что я считаю русских азиатами. Я не настолько глуп, я изучал славянскую филологию, неоднократно бывал в Ленинграде, имел друзей среди русских научных работников – и не могу обманывать себя. Но во имя блага европейской цивилизации, – в голосе его зазвучало странное вдохновение, столь далекое от привычной иронии, – во имя счастья всего человечества их превратят в азиатов. Загонят в Сибирь. А всех, кого сочтут нужным оставить… заставят трудиться… на нас. Иного они не заслуживают. Вы ведь сами могли убедиться – приличных людей в этой стране не осталось. Ее сожрал Смердяков. Ненавижу…
Он скривился и неожиданно всхлипнул, беспомощно, почти по-детски. Похоже, что мы оба сильно перебрали. Но произнесенные слова не стали от этого менее убедительны. Я действительно поверил, что России больше не будет, пусть я и не считал, что ее быть не должно.
Мы еще долго стояли на берегу, жадно вдыхая прохладный вечерний воздух. Ветер с моря приносил облегчение. Уходить не хотелось – напротив, хотелось остаться. Остаться и всматриваться в безмолвную даль, полыхавшую в лучах предзакатного солнца, багровым диском повисшего за спиной.
Но солнце в считаные минуты погасло. На море, на пляж, на притихший испуганный город легла непроглядная ночь.
Город славы
Красноармеец Аверин. Род. 1923
Вторая половина мая 1942 года, седьмой месяц обороны Севастополя