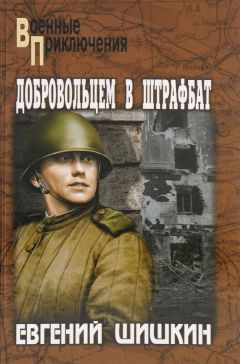Александр Проханов - Война с Востока. Книга об афганском походе
– Уйдут? – горестно выкрикнул Разумовский, держа на веревке плот. – Уходят?
Две темные крапинки замедлили скольжение по небу, остановились в развороте одна над другой, замерли. Майор понимал, что машины, совершая разворот, приближаются. Призывал их, мысленно выставлял им навстречу радиомаяк, палил сухой валежник, вздувал дым в небеса, пускал сигнальные ракеты. Не было дыма, костра, ядовито-оранжевого сигнального шлейфа, а только его умоляющие, привлекающие глаза, полувыжженные солнцем и гарью.
– Поворачивают!.. – ликовал издалека Разумовский. – На нас поворачивают!..
Вертолеты приблизились, развернулись, пошли в стороне вдоль канала, уже различимые, с капсулами фюзеляжей, стебельками хвостов, – две крылатые личинки, сносимые в струящемся небе.
Майор напряженно следил за ними, отпускал в сторону, понимая, что это обычный пролет над «зеленкой», прочесывание и просматривание, когда район нарезается на ломти и машины на разных высотах процеживают рельеф. Меняя курсы, сдвигаясь к каналу, они скоро пройдут над водой.
Разумовский, вытащив плот, пошел вдоль берега, туда, куда удалялись вертолеты, словно догонял их, боялся отпустить. В своих приспущенных обвислых шароварах, в тесной, натянутой на спине жилетке остановился, вытягивая шею на звук.
Вертолеты исчезли за волнистыми слоями неба, за косматыми зарослями, и майор опять испугался, что они не вернутся. Но звук держался, усиливался, наливался двойным рокотом, секущим посвистыванием. Передняя машина возникла над каналом, надвигаясь, увеличиваясь, надвигая пузырь кабины, солнечный рефлекс винта. С грохотом, звоном, подставляя пятнистый борт с цифрой «сорок четыре», проутюжила небо, выбрасывая прозрачную копоть. Вторая машина поодаль прикрывала ее.
– Сорок четвертый!.. – кричал Разумовский майору. – Ложкин, мать твою так!.. Нуты, рыжий, вали сюда! – махал он в небо, подзывая машину, где на кресле левого летчика сидел рыжий лупоглазый Ложкин, пьяница, бузотер, с кем в модуле дули спирт, резались в карты, слушали оглушительный «панасоник», зазывая на музыку соседок из женского модуля. – Ложкина Бог послал!..
Они оба махали, дергали вверх автоматы, чтобы быть видней и заметней. Звали пройдоху Ложкина – сейчас приземлится, раздувая воду и пыль, они втащат на борт драгоценный ящик, плюхнутся на лавки, и их унесет в небо, подальше от проклятой «зеленки», от ненужного плота и канала. Через двадцать минут окажутся в батальоне, среди своих, после всех потерь, потрясений.
Рев и стрекот винтов приближались, расширялись стальной воронкой. Из этой воронки над зарослями возник блестящий перепончатый пузырь вертолета, бритвенно-острый винт, подвески, колеса. Разумовский хватал небо руками, словно готов был принять на ладони спускавшуюся машину.
И оттуда, из грохота, из тени, заслонившей солнце, запульсировал курсовой пулемет. Очередь прошла у ног Разумовского, и дальше, по воде канала, прочеркнув его всплесками. Вертолет умчал свою тень, оставив Разумовского на солнечной пустоте у воды, по которой сносило след пулеметной очереди.
– Одежда!.. «Духовскую» одежду сними!.. – крикнул Оковалков, понимая, что летчик принял их за вооруженных моджахедов и готов их убить. Он отпрянул в заросли, стаскивая с себя рубаху, драные шаровары, надеясь, что Ложкин сквозь блистер разглядит их белобрысые головы.
Разумовский понял, сдирал с себя ветхие ткани, а машина, совершив разворот, приближалась, испускала стрекочущий вой.
– В кусты!.. – крикнул майор, призывая Разумовского в заросли, где они смогут укрыться от ослепшей машины.
Вертолет приближался. Капитан, сбрасывая на бегу шаровары, голый с рельефными мускулами, подбегал к зарослям, а пулемет драл под его ногами землю, стегал солнечной палью, и он подскакивал, перепрыгивая через невидимую, хлещущую по земле веревку.
– Ложкин, сука!.. – орал Оковалков, грозя кулаками машине, где рыжий пилот выцеливал бегущего человека, делавшего петли и скачки, падающего в колючки, среди скачущих пуль. – Сука рыжая!.. Падла!
Умолял, сквернословил, клял вертолет. Увидел, как ткнулся вперед капитан. Угадал и почувствовал, как острый пульсирующий пунктир вонзился в его голую спину между лопаток, пробил насквозь. Разумовский упал, облачка пыли, поднятые пулями, побежали вперед, исчезая.
Понимая, что Разумовский убит, испытывая ужас, абсурд, невозможность жить в этом кромешном, убивающем мире, Оковалков выбежал из зарослей вслед вертолету, направил ему в хвост автомат, бил навскидку, хотел дотянуться до рыжего улетающего убийцы, зацепить его хоть одной-единственной пулей среди его приборов и блистеров.
Услышал за спиной налетающий рев. Успел оглянуться – вторая машина, снижаясь в пикировании, вытолкнула из-под брюха черную бахрому, в которой замерцали белые угли. Стремительный грохот оторвал его от земли, поднял в небо, и, перевертываясь, теряя сознание, видел: он, голый, растопырив руки и ноги, летит в небо, а земля в липком дыму, подернута красным огнем.
Он очнулся, и первым его ощущением была липкость в глазах, во рту, в хлюпающих, наполненных жижей ноздрях. Он попробовал шевельнуться, и это шевеление отозвалось болью в плече, в бедре. Боль породила дрожь во всем теле. Он дрожал, как от холода, сотрясался мышцами, внутренностями, и это трясение было жизнью. Вяло, сумеречно он вспомнил про вертолеты. Стал выдавливать из-под век липкий клей, выхаркивать склеивающий глотку ком.
Открыл глаза и увидел синее вечереющее небо, серую землю и далекие оранжевые горы на горизонте. Долго смотрел на этот оранжевый парящий между синим и серым цвет, наполняясь им, привязывая к нему свое сотрясенное бытие.
Ему казалось, что лицо его свернуто, нос сместился с оси симметрии и два глаза, полузакрытые, глядящие на оранжевые горы, находятся по одну сторону носа. Руки дрожали, и он, опираясь на локти, встал на колени.
Струился канал, темный, глянцевитый, с синим отливом. Мохнатым горелым пятном чернела земля. Сквозь слизь, забившую ноздри, он различил холодную вонь пироксилина. По другую сторону сгоревшей поляны белела спина Разумовского – ткнулся в землю, выставив лопатки. И мгновенно припоминая охоту за ним вертолета, дымящиеся дорожки от пуль, Оковалков застонал, застучал челюстью в челюсть, останавливая этот утробный стон.
Капитан мог быть ранен, терял кровь. Майор на четвереньках пополз через выжженный круг, чувствуя, как бьет его колотун, как скособочена голова, скошенные на сторону глаза видели близкую прокопченную взрывом землю.
Он дополз до капитана, до его голых, обутых в кроссовки ног. Трусы его были приспущены, белели ягодицы, а в спине между сдвинутых лопаток были две близкие пулевые раны с потеками крови. Лица и усов не было видно, золотился бритый затылок. Майор тронул его за лопатку. Тело чуть теплилось, словно из него, как и из этой вечерней «зеленки», уходили свет и тепло.
– Говорил тебе, «духовскую» одежду не надо… Надо было свою оставить…
Он гладил шершавое от пыли, остывающее плечо друга. Накрыл ладонью его раны.
Оранжевые горы у горизонта гасли, вода в канале неслась нефтяной струей, на которой вдруг что-то вспыхивало – то ли синеватый луч первой звезды, то ли рыбий плавник. А он все сидел над убитым, прикрыв ладонью раны, чувствуя, как тянет из них холодным, дующим сквозь тело земляным сквозняком.
Он хотел умереть и больше не вставать. Застыть, окаменеть, пропитаться этим ледяным, веющим из пулевой дыры сквозняком, ибо больше не было сил, не было людей, не было мыслей и желаний, кроме одного – остановить в себе лютую, в ужасах и страданиях жизнь. И он гасил ее в себе, останавливал сердце, мешал движению крови, замораживал мысль, и она застывала недвижной картой изуродованной земли и белеющего, с острыми лопатками тела.
В этой застывшей замурованной мысли дернулась слабо последняя живая частица. Ящик с ракетой, уложенный между корней. Неужели и его расстрелял пролетевший рыжий урод? И весь путь по «зеленке», связанный с обретением ящика, – лишь бессмысленное перемещение от смерти к смерти, от уродства к уродству?
Эта малая живая частица, дернувшись, оживила картину мира. Бежала вода. Горела белая водяная звезда. И там, в деревьях, в корнях, лежал ящик.
Оковалков снял ладонь с пулевого отверстия. Распрямляя скрипящие колени, поднялся и пошел через гарь к каналу, страшась увидеть щепки ящика, перемолотую и расколотую ракету.
Ящик был цел, припорошен песком, опавшей листвой. Майор вытянул из укрытия его длинный брусок, наполненный литой равномерно распределенной тяжестью. Плот, вытащенный на берег, слабо белел сухими суками.
И Оковалков понял, что он сейчас подтащит ящик к плоту, укрепит его на суках, спустит на воду, забредет в канал и, умирая, погибая, теряя память и ум, поплывет, толкая перед собой плот, сам толкаемый угрюмой неведомой силой. Не волей, не долгом, не смыслом, а чем-то тяжелым, упорным, доставшимся ему по наследству от неведомых угрюмых людей, от которых он появился на свет, продолжая завещанное ими движение по бедам и мукам.