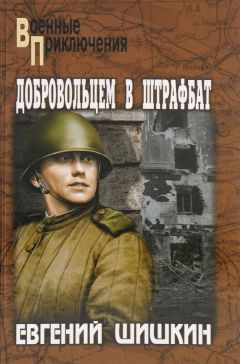Александр Проханов - Война с Востока. Книга об афганском походе
Мчались по тропам летучие группы, крались в подземных кяризах расчеты гранатометчиков. Враг окружался, подвергался обстрелу и уничтожению. Или же обманно отвлекался ложной атакой, а в это время под землей уходили американский советник или пакистанский инструктор, а группа спецназа ввязывалась в отвлекающий бой, теряла людей.
Таков был закон «зеленки». Стоящий перед ними пастушок был одновременно и разведчиком. Его испуганные, в солнечном блеске глаза пересчитывали пришельцев, брали на учет их оружие, угадывали направление маршрута.
Разумовский посмотрел на Крещеных, на его полусогнутую кривоногую фигуру, на опущенный кулак, сжимающий ствол пулемета. Прапорщик тяжело, по-бычьи повернул шею, поймал взгляд Оковалкова. Майор смотрел не мигая в рыжие, песчаного цвета глаза прапорщика. Прапорщик качнулся. Положил на землю пулемет. Медленно, качаясь на кривых усталых ногах, пошел вниз, к пастушку.
Овцы отпрянули, цокая и мелко пыля, взбежали на склон. Смотрели сверху, как идет к пастушку Крещеных. Крещеных подошел, обнял пастушка, прижал к груди его шерстяную шапочку, его длинную хламиду, и так, замерев, они стояли. Майору казалось, что стоят они слишком долго, целую вечность, и за это время где-то выпал снег и замерзла река, и на крыше заблестели сосульки, и мать осторожно, чтобы не поскользнуться, несет из булочной хлеб, а он, мальчик, смотрит на нее из окна.
Крещеных разъял объятия, и пастушок мягко улегся на землю, не издав ни единого звука, а прапорщик прятал в ножны узкий влажный нож. Шел обратно усталый, на кривых ногах, похожий надрессированного, выступающего в цирке медведя.
Овцы с пригорка смотрели, как лежит пастушок.
Временами казалось – вода близка. Вот-вот блеснет канал, ровная бегущая гладь, заключенная в рукотворный желоб. Лента воды среди насыпанных валов, над которой они многократно пролетали в вертолете. Машина, делая противоракетный маневр, отстреливала огненные головки термиток, улетавших, как зажженные спички.
Но канала не было. Лишь волновалась накаленная плазма воздуха, сквозь которую они проносили свои воспаленные, обгорелые лица.
Они наткнулись на разрушенную мечеть, бело-желтую арку с вмурованными синими изразцами. Вошли внутрь, надеясь хоть на минуту укрыться от жары. Но в проломленный купол, из проемов дверей и окон устремлялся вихрь бесцветного горячего воздуха, и казалось, что это печь с огнедышащей тягой. И если тронуть стену ладонью, запахнет жареным мясом.
В другом месте они набрели на остов вертолета. Скелет шпангоутов, обугленная, со следами пятнистой краски обшивка, ломаные лопасти, провалившийся внутрь редуктор. Вертолет был полузасыпан песком. Кабина зияла провалами блистеров. На клепаном полу валялось множество высохших мертвых жуков. Черные хитиновые скорлупки покрывали сиденья пилотов, кресло кормового пулеметчика. Кладбище жуков, собранное загадочной силой в разбитом вертолете.
Они услышали тихий звон. Оковалкову показалось, что это звенят его переполненные закипающей кровью виски. Но звон раздавался из-за рыжей глинобитной стены, переносимый вместе с валом душного ветра.
Так звенят бубенцы на шее усталых верблюдов, когда пыльный караван, колыхая поклажей, движется в волнистых бесконечных песках.
Они замерли, залегли, ожидая увидеть горбатого длинношеего зверя с тюками на впалых боках, погонщика на юрком ишачке. Но верблюдов не было. Медный звон исходил из недвижного места, свидетельствовал об отсутствии жизни, вызванивал унылую мелодию неподвижности, солнечную безжизненность ветра.
– Прикрой! – сказал Оковалков прапорщику, ковыляя к дувалу, протискиваясь сквозь щель на внутренний, окруженный стенами двор.
Он увидел квадратное, вытоптанное пространство двора. Вмурованное в стену, растресканное, с дуплами и суками дерево. И под этим бревном ногами вверх висел человек. Он был голый по пояс, ноги его в щиколотках были стянуты толстой веревкой, переброшенной через бревно. Руки с обрубленными запястьями обвисли, не доставая земли. Солдатские грязные заляпанные штаны были расстегнуты, и виднелись черные, в корявой сукрови остатки половых органов. Лицо его было изуродовано, с пустыми глазницами, из которых вылились и засохли, превратились в сморщенные темные нити глаза. Нос был срезан, губы отсечены и обнажали белые оскаленные зубы. Из распоротого живота, как из раскрытой сумки, вывалились высохшие кишки. И весь он был высохший, вяленый, долго провисел на солнце, тело его изжарилось, усохло в лучах. Это был смуглый вяленый окорок, и земля под ним, пропитанная кровью, почернела и окаменела, как цемент. На шее его был привязан желтый медный бубенец. Он и звенел, слабо вращаясь на шнурке, находясь в непрерывном вялом потоке ветра.
Оковалков стоял, опустив автомат, посреди этой жуткой коптильни. Но не было сил ужасаться. Остальные трое вошли во двор, смотрели на повешенного, на его округлую тень.
Это мог быть водитель КамАЗа, во время обстрела колонны скатившийся в кювет, оглушенный взрывом цистерны, попавший в плен к моджахедам. Или мотострелок, во время ночного боя упавший с брони транспортера, забытый в суматохе отступления, когда машины, уклоняясь от ударов гранат, крутя пулеметами, уходили на больших скоростях. Или измученный издевательствами квелый новобранец, забитый до полусмерти, решивший уйти в «зеленку». Или незадачливый меняла, потихоньку сносивший в придорожный дукан банки сгущенки, добывавший у торговца вкусный напиток «си-си», дешевые брелоки и наклейки.
Солдат, попавший в плен, принял на этом дворе страшную муку. Висел здесь после казни, иссыхая и изжариваясь на дневном солнце, позванивая бубенцом среди холодных звезд.
Они сидели, прислонившись к стене, укрываясь в короткой тени. Смотрели на казненного и одновременно отдыхали, пользовались передышкой в пути.
Оковалков старался представить, какая доля выпала безвестному пленнику. Как скрученного, отторгнутого от друзей, уволокли его в глубь «зеленки». Как возили его по разоренным кишлакам, и вдовы и сироты набрасывались на него, сцарапывали кожу. Как доставили его к месту казни, и бородатые люди с винтовками оседлали стены, смотрели на перекладины и веревку. Как вздернули его вниз головой, и в перевернутом мире сквозь слезы он видел ликующую толпу, белобородого читающего молитву муллу и палача с коротким острым ножом.
Оковалков думал о нем, мысленно называл его Колей.
«Коля… – думал он, глядя на сухое безрукое тело, – Коля…»
Безымянный, он будет числиться в пропавших без вести. Мать, получив невнятное письмо командира о том, как загадочно исчез ее сын, все будет ждать его с этой войны, надеяться, что Коля ее жив, в плену, и когда-нибудь, когда замирятся правители и армия вернется домой, она получит от сына весточку.
Они сидели не в силах подняться. Слушали сонный звон бубенца. Им хотелось заснуть ненадолго, пусть здесь, в этом ужасном месте. Набрать малую толику сил.
Оковалков не испытывал ужаса, не испытывал ненависти к казнившим, не испытывал сострадания к пленнику. На все это не было сил. Он сам убивал и других заставлял убивать. И его убивали, убивали его солдат. Это была война, на которую он пришел, для которой его мать родила.
– Давай помоги, Разумовский…
Капитан, качаясь от усталости, подсадил Оковалкова, и тот десантным ножом обрезал веревку. Усохшее, нетяжелое тело соскользнуло на руки Щукина и Крещеных. Они отнесли его за пределы двора, похоронили в неглубокой выбоине, забросав колючками и песком.
«Коля…» – думал майор отрешенно, делая пометку на карте.
И сюда опустится «ми-восьмой», собирая по «зеленке» убитых. В небе кругами будут нырять и скользить «двадцатьчетверки», прикрывая доставку трупов.
«Коля…» – повторял Оковалков, удаляясь от изглоданных стен.
Когда тени от их бредущих фигур удлинились, и в белом бесцветно-слепящем зное появилась едва заметная предвечерняя краснота, и жар, ровный и жестокий, чуть дрогнул и стал незаметно спадать, они увидели среди пепельных серых пространств далекую зеленую полосу. Она пересекала равнину, выделялась на ней сочным немертвенным цветом. Так выглядели растения – травы, кусты и деревья, напоенные водой. Там, окруженная зеленой бахромой, была вода, был канал.
Оковалков пережил его появление, как короткий перебой в груди, не от радости и облегчения, а от угрюмой уверенности, что канал должен был появиться, несмотря на все потери и траты, связанные с приближением к каналу. И вот он возник.
Они опустились в пологую рытвину, похожую на старый окоп. Это был последний привал перед тем, как достичь канала. Там, на берегу, они остудят себя чистейшей водой, окунут в поток пылающие, как головни, руки и ноги, станут пить, свесив голову к холодным струям, рожденным от горных ледников, погружая в них губы, глаза, выдувая звенящие пузыри. А когда стемнеет, двинут вдоль канала, вдоль бархатно-черной, без отражения звезд стремнины.