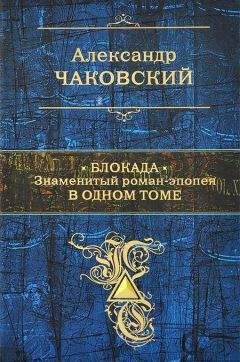Александр Чаковский - Блокада. Том 2
Младший лейтенант то исчезал за пологом, то появлялся снова, ставя на стол кружки, чайник, блюдечко с мелко наколотым сахаром, тарелку с черными армейскими сухарями, банку свиной тушенки.
Наблюдая за этими сборами, Малинников пошутил:
— Есть у меня, товарищ Звягинцев, один крупный недостаток: не потребляю хмельного. Зарок дал: после победы отопьюсь. На вас, однако, зарок мой не распространяется. Младший! — снова позвал он.
Но Звягинцев предостерегающе поднял руку:
— Всему свое время.
— Отставить! — сказал Малинников появившемуся младшему лейтенанту и стал разливать по кружкам чай.
Звягинцев отхлебнул из своей кружки и сказал решительно:
— Извините, товарищ Малинников, не будем терять время. Давайте соединим приятное с полезным. Есть много вопросов, которые…
— А вы думаете, у меня их нет? — прервал комендант. — Только и я полагал, что всему свое время. Впрочем, если не терпится, я к вашим услугам.
— Не обижайтесь, товарищ Малинников, — миролюбиво сказал Звягинцев, — и давайте ваши вопросы.
— В таком случае вопрос первый: недовольны нашей работой? Ну там, на Дворцовой? — Как и большинство ленинградцев, Малинников называл площадь Урицкого ее старым именем.
— Почему недовольны? — удивился Звягинцев.
— Раз специального уполномоченного прислали, стало быть, недовольны.
— Нет, товарищ Малинников. Дело совсем не в этом.
— В чем же?
Звягинцев не знал, что ответить ему. Сказать о необходимости дальнейшего совершенствования укреплений? Да разве ж Малинникову это не известно? Нет, другого ждет от него комендант; хочет выяснить, что там замышляется в штабе фронта на ближайшее будущее. А он, Звягинцев, и сам не посвящен в эти замыслы. Вот Монес, тот, пожалуй, кое-что знает, да помалкивает. Даже упрекнул Звягинцева за излишнее любопытство: «Ставку, Военный совет опередить хочешь?..»
Так и не найдясь, что ответить Малинникову, Звягинцев попросил его:
— Познакомьте меня со своим хозяйством.
— Готов, — откликнулся Малинников и, встав из-за стола, подошел к карте.
Он был немногословен, но достаточно обстоятелен: показал границы укрепрайона, расположение в этих границах артиллерийско-пулеметных батальонов, доложил о состоянии вооружения и с удовлетворением отозвался о выучке личного состава:
— Люди пришли к нам главным образом с заводов. Но уже второй год армейскую форму носят. Солдаты настоящие.
О боевых задачах распространяться не стал:
— Обычное дело — стоять стеной.
В этих его словах отчетливо прозвучала тоскливая нотка. Но Звягинцев знал: такова уж судьба любого УРа. Даже в случае наступления он пропускает полевые войска через позиции, а сам остается на месте. И лишь при явно обозначившемся успехе продвигается вперед, чтобы снова рыть траншеи, строить дзоты и минировать подходы к ним. На войне всегда существует опасность, что наступление будет отбито противником, в тогда УР должен пропустить свои отступающие войска в обратном направлении, а потом заслонить их от преследования.
Несколько мгновений Малинников смотрел на Звягинцева выжидательно, наконец не выдержал, спросил:
— Новое наступление готовится?
— А вы что, не рады? — неопределенно ответил Звягинцев.
— Не радоваться в таком случае только враг может, — с обидой в голосе ответил Малинников. — Но одно наступление здесь я уже видел. В сентябре. Только ничем оно кончилось.
— Неверно вы говорите! — возразил Звягинцев. — Сентябрьское наступление штурм Ленинграда сорвало. Разве этого мало?
— Эх, товарищ Звягинцев! — с упреком сказал Малинников. — Нам ведь вместе выполнять боевую задачу. Так давайте начистоту разговаривать! Какой-то странный мы счет ведем. В прошлом году прорвать блокаду не сумели, зато, говорим, от Москвы противника отвлекли. В этом году тоже не прорвались, опять выходит победа: от штурма Ленинград избавили. А когда, я вас спрашиваю, настоящая победа придет, такая, как под Москвой?
Звягинцев помедлил с ответом, понимая, что Малинников произнес эти слова, руководствуясь не разумом, а только душой, истерзанной душой ленинградца, и если остаться глухим к этому крику души, между ними навсегда возникнет невидимая стена.
— По-человечески могу вас понять, — спокойно сказал Звягинцев, — мне ведь тоже не раз отступать приходилось. И под Лугой, и под Кингисеппом…
— Там иное дело было! — горячо перебил его Малинников. — Тогда на всех фронтах отступали. А теперь-то другие воевать научились, а мы все топчемся на месте.
Два чувства боролись в душе Звягинцева.
Ему вспомнился давнишний разговор с полковником Королевым, когда сам он, так же вот осуждая других, требовал дать ему место в бою, а не посылать на строительство оборонительных сооружений. И в ушах Звягинцева снова прозвучала саркастическая реплика полковника: «Как ваша фамилия, товарищ майор? Суворов? Или Кутузов? Руководство войсками изволите взять на себя?.. Нет, ты стой и умирай там, где тебя партия поставила!..»
Может быть, следует повторить сейчас это Малинникову? Пусть мягче, иными словами. Объяснить, что на войне бывают разные подвиги, что выдержать, выстрадать голодную блокаду — это тоже великий подвиг. Наконец, напомнить азбучную военную истину: никакая армия не может быть одинаково сильной на всех направлениях…
Но другое чувство удерживало Звягинцева от всех этих трезвых доводов: сознание собственной вины перед Ленинградом и ленинградцами. Оно тоже было сильнее логики, сильнее здравого смысла и опиралось лишь на горький, неоспоримый факт: более года враг стоит у стен города, более года занимает левый берег Невы. И ни одна попытка прогнать его, отбросить, как отбросили от Москвы, до сих пор не увенчалась успехом…
Запутавшись в собственных чувствах, Звягинцев сказал, будто размышляя вслух:
— Очень уж укрепились немцы под Ленинградом.
— Да, — согласился Малинников, — укрепления гансы создали серьезные, тут уж ничего не скажешь!..
Разговор их опять вернулся в строго служебные границы.
— Какие пожелания имеются, товарищ подполковник? — спросил Малинников.
— Пока никаких.
— Если не возражаете, можем хоть сейчас отправиться в расположение батальонов…
— Я готов. Только из сапог в валенки переобуюсь.
Сказав это, Звягинцев вытащил из-под топчана свой чемодан. Валенки лежали там на самом дне. Чтобы достать их, пришлось выкладывать на топчан все содержимое чемодана — три смены белья, портянки, носки, подворотнички, планшет. И тот рисунок Валицкого, выпрошенный у Веры. Теперь он был в рамке и под стеклом. Один из бойцов-плотников обратил внимание, что Звягинцев очень уж часто разглядывает этот рисунок, и по собственной инициативе смастерил рамку.
На какие-то мгновения рисунок и сейчас приковал к себе взгляд Звягинцева.
— Это что ж ты картинку какую-то с собой возишь? — с усмешкой спросил Малинников, переходя на «ты».
— Это не картинка! — ответил Звягинцев и захлопнул крышку чемодана.
— Прости, — виновато произнес комендант. — Не понял я сразу, что фотографию ты рассматриваешь. В чужие секреты нос совать не приучен.
— Никакого тут секрета нет, — примирительно сказал Звягинцев. — Да и не фотография это. На, смотри, если хочешь.
Некоторое время Малинников разглядывал рисунок, повернув его к свету карбидной лампы. Потом спросил:
— Что же это такое?
— Памятник. Точнее, эскиз памятника. Один старый человек рисовал.
— Кому памятник-то?
— Ленинградке. Женщине-ленинградке. Когда-нибудь поставят.
— Та-ак… А рисован с натуры? Больно лицо у девушки… ну, как бы сказать… настоящее.
— Не знаю, — ответил Звягинцев, не глядя на коменданта.
— Сильно́! — будто не слыша его ответа, продолжал рассматривать рисунок Малинников. — Лицо молодое и… вроде старое. Глаза как на врага нацелены, а все-таки добрые. Видно, с талантом был художник. На, держи. — И протянул рамку с рисунком Звягинцеву.
Тот снова раскрыл чемодан, чтобы положить рисунок на прежнее место, но Малинников неожиданно предложил:
— Может, повесим, а? Вот здесь, над твоим топчаном.
— Неудобно, — пробормотал Звягинцев.
— Почему?
— Здесь… вон чьи портреты висят.
— Ну и что! Я ж не Геббельса в соседи к ним предлагаю. Того бы я не здесь и совсем иначе повесил. На свалке и за шею. А этому рисунку здесь самое место. Вон и гвоздь готовый в стене торчит. Дай сюда!
И он почти выдернул рамку из рук Звягинцева…
…Полчаса спустя они вместе с заместителем начальника штаба УРа подполковником Соколовым стояли на краю глубокого, засыпанного снегом оврага, и Звягинцев внимательно разглядывал в бинокль открывшуюся перед ним панораму.