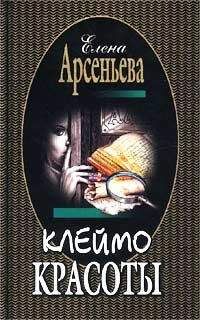Елена Ржевская - Далекий гул
У полуторки шумное прощание, напутствия. Поднимаясь в кабину, украдкой последний раз издали поглядела на него.
Машина тронулась.
Еще когда мы были в Прибалтике, на глаза попалась одинокая костяшка домино — «дуппель-два». Я разломала ее, половинку — ему, половинку — себе. Эти половинки в шутку — вроде бы зарок никому не ведомого, тайного нашего единения, а вернее, и уже не в шутку, талисманы, что так нужны на фронте. И через полгода, когда побывал в Москве, и через годы, когда мелькал проездом, он «предъявлял» обломок «дуппеля» — знак верности памяти о былом.
На какие подвиги снарядила его наша родина с моим талисманом в кармане — не знаю. Он рос в чинах. И этот пустячный обломок — возможно, для него память о том времени, когда был чист, отрешен и смел, как свободный человек. Моя половинка «дуппеля» хранится в шкатулке с орденами.
А тогда-то полуторка повезла меня из Стендаля в штаб фронта, куда приказано было мне прибыть в связи с демобилизацией.
Проехали по Берлину. Американский патруль — солдаты в защитного цвета робах — шагал вразвалку, подхватив под руки молодых немок.
Машина неслась еще сорок километров по знаменитым гитлеровским автобанам. Шофер, мой «суженый», беспечально посматривал на меня. Держа на руле левую руку, правой протянул начатую пачку американских сигарет, подаренную негром водителем.
— Угощайся, товарищ лейтенант!
Но я не курила.
Он доставил меня к месту, в Потсдам, в штаб фронта. Опустил борт грузовика. Снес в гостиницу тяжелый большой радиоприемник — подарок нашей воинской части мне, отбывающей.
— О! То дома уже тесто творят! Шнапс промышляют! — благодушно восклицал он, предвкушая, как и его скоро будут встречать. — Всех хороших благ в вашей мирной жизни. — И крепко встряхнул мою руку.
С этим последним рукопожатием обрывались все связи. Четыре года не принадлежать себе, быть вместе со всеми в гуще войны. И вдруг… Отпадение. Я совсем одна. Это что-то забытое или, пожалуй, неизведанное, ошеломляющее. Как это странно само по себе. В невнятице дней в Потсдаме слоняюсь растерянно одна вдоль едва тронутых ржавчиной желтизны и багрянца садов, скрадывающих особняки с затаенной, глухой и деятельной в них жизнью. Почти нет встречных прохожих. Теплая осень. Озера. Над ними туман. И марево обволакивает, топит лихорадящее — ноющую боль расставания. И что ждет? Что будет?
В семье у нас неблагополучно, отец ушел от мамы. Профессии у меня никакой. Одно лишь непреклонное обязательство, почему-то возложенное на себя, — писать. И обязательство ли? Скорее — тревожная обреченность. Это очень мало и слишком много для будущей жизни, когда ты один на один со всем, что было и будет, со своими тайнами и слабой верой в толк обычной жизни с дробленой повседневностью.
Еще в мае меня вызвали в штаб Жукова — он размещался тогда на окраине Берлина — переводить пересланные сюда дневники Геббельса, найденные нами в его кабинете в «фюрербункере». Между делом я общалась с телеграфисткой Раей. Ее жених, старший лейтенант Власов, привез ей кое-что из бункера фюрера. При мне она примерила вечернее платье Евы Браун и забраковала его из-за большого декольте, а синие танкетки в картонной коробке — по крышке надписано, видимо, поставщиком: «Für Frl. Eva Braun» — «Для фройляйн Евы Браун» — оставила себе.
Мы обе полны были радужных надежд насчет нашего мирного будущего. В преддверии Победы и краткий миг после нее всем казалось, что нас ждет обновленный мир жизни, в которой будет много больше свободы и много меньше, чем прежде, недоверия. Народ, так самоотверженно проявивший себя на войне, может, казалось, рассчитывать на доверие своих правителей. Ведь и дети «врагов народа», и сами эти «враги», если кого из них выпускали из тюрем, и блатные, и раскулаченные, и священники вставали за отчизну, погибали.
И в духе этих возбужденных надежд на первых порах долетали взбалмошные вести, ими делился со мной Ветров: то о том, что будет дозволена некоторая свобода инициативы, вроде нэпа, для быстрейшего залечивания зияющих ран войны. То будто теперь разрешат ездить в отпуск за границу. Словом, нас волновало и будоражило ожидаемой новью.
Прошло пять месяцев без войны. Из Москвы мало что доходило до нас. И будущее стало рисоваться в прежних, довоенных очертаниях. Ибо если в разгар войны довоенная жизнь казалась такой заманчивой, такой яркой и многообразной, то теперь она потускнела. Кое-кто из тех, что постарше меня и уже прежде работали, теперь предпочитали жизнь на войне. В первую очередь офицеры, хотя такие настроения были и среди рядовых, хвативших на фронте поболее лиха.
На войне, оказывается, было больше воли, просторнее, не гнуло так травящей подозрительностью и закоулочной опасностью, и цель, за которую надо было класть живот, была правой. Она не была риторична и умозрительна. Она была ясна, несомненна, осязаема. Ставя за нее на кон свою жизнь, человек чувствовал себя человеком, мужчиной, чего лишен был в мирных условиях.
В Потсдаме мы на прощание сидели с Раей в осеннем саду. Был тихий предвечерний час. Немец, хозяин дома, где жила Рая, взобравшись на подставленную к яблоне стремян-ку, рукой в перчатке осторожно снимал плоды. Все было так, словно глубокий покой сошел на землю. Но в душе его не было.
Оформление документов по демобилизации затягивалось. Но все равно не представлялось возможным уехать домой. Демобилизованные осаждали эшелоны, брали с боя, облепляли крыши. Говорили: пройдут месяцы, прежде чем немного рассосется.
Всех обуял яростный порыв: домой! Каждый день оттяжки — несчастье. Вопли, гогот тех, кто пролез, уцепился, вскарабкался на крышу, песни, бесшабашность. «Мы — с войны!» — плакаты вдоль вагона. Встречайте! «Мы победили!», «Мы — из Берлина!»
Это потом, на родине, отойдя, осев, зажив с миром, ощутят ностальгию по войне. И появится заражающая, как зевота, офицерская усмешечка: «Войнишки бы на час», — на тот звездный, какой был либо вслед привиделся.
И я истреблялась в томительном ожидании отъезда. Делать было нечего, только уповать на доброе содействие. Жила покуда что в офицерской гостинице — массивном доме с широкими коридорами и просторными комнатами, здесь до недавнего времени была богадельня. Где-то теперь жили ее обитатели, старухи?
В комнате, отведенной мне, были следы недавней ее хозяйки — под стеклянным колпаком маленький храм из кости и распятие в нем, кресты на четках из перламутровых или деревянных бусинок. Вскоре среди этих культовых предметов поместился на видном месте белый эмалированный дуршлаг. Он принадлежал девушке Тане, подселенной ко мне. Я уезжала, она же только прибыла в Германию, прослужив всю войну в армии и окончив ее на нашей земле. В Сталинграде погибла ее большая, дружная, хлебосольная семья, осталась жива одна мать — на пепелище и в муках утрат и одиночества.
Таня, женственная, мягкая, была преисполнена самых позитивных чувств к жизни и созидательных намерений. Она хотела, получив назначение в Германию, выписать сюда мать, хотела родить детей и для этого, значит, выйти замуж за надежного человека, не сомневаясь, что скоро встретит здесь такого. Приобретенный или где-то подобранный ею дуршлаг был началом строительства жизни, и целительная весть о нем полетела почтой в Сталинград, к матери, потерявшей всех и все, в том числе не восстановимую в разоренной стране кухонную утварь, среди которой привычно прошла ее жизнь в заботах о семье.
Кроме дуршлага, у Тани ничего больше пока не было. Но начало было положено. Покой, теплота жизни, простые человеческие притязания и привлекательный женственный облик — все это очень располагало к ней.
Она в ожидании назначения, я — отправки домой, обе, ничем не занятые, мы гуляли по окраине Потсдама в теплом осеннем мареве озер. Как здесь было покойно, красиво. Немецкие сады готовились к отдыху. И невдомек нам было в тех прогулках, какая тяжелая зима обрушится вот-вот на немцев в неотапливаемых домах.
Но зачем, боже мой, зачем же из своих уютных городов они ринулись в пучину войн, грабежа, убийства, кровавой авантюры и привели сюда нас?
Тогда в Потсдаме я не знала ни о Цецилиенхофе, где всего лишь за два с лишним месяца до того состоялась конференция союзников. Ни о Гарнизонной церкви — сюда, придя к власти, тотчас явился, надев фрак, Гитлер: позировать фотокорреспондентам у могилы Фридриха Великого, внушать задуренным немцам свое якобы духовное с ним сродство. Не знала я и о дворце этого императора в Потсдаме — Сан-Суси, пострадавшем в войну. Да если б и знали, мне это было ни к чему. Хотелось страстно лишь одного — уехать.
Той мягкой, умиротворяющей осенью мы с Таней бродили по берегам озер, в парке, вдоль улиц мимо живых изгородей у коттеджей. В душе зарождалась радость жизни. Это не то острое чувство плоти жизни, что на фронте вдруг пронзало на миг, другое — тихое, примиряющее, живительное.