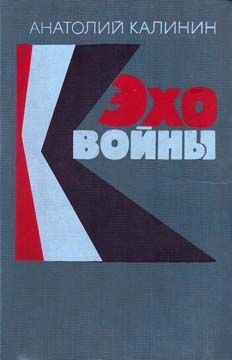Константин Лордкипанидзе - Парень из Варцихе
— Цыц, цыц! — со сдержанной злостью зашикал старик, тихо постукивая по крышке сундука.
«Еще не спит», — горько сжалось сердце сына.
Прошло с полчаса. Переждав еще немного, Михась встал.
На топчане отца было подозрительно тихо, и Михасю показалось, что отец притворяется спящим. Михась накинул шинель и на цыпочках вышел во двор.
Кричали полночные петухи.
Михась бесшумно и осторожно пробирался задворками.
Было темно, но он шел уверенно, почти без заминки переходил предательски ветхие мостики, легко находил огородные перелазы.
Навстречу наползал низкий туман. Невидимый глазу, он угадывался по запаху и по тому, как пропадали неясные очертания уходящих в небо верхушек берез и как постепенно глохло журчание реки, точно придушенное неумолимой теменью.
За рекой туман остался позади. Луна светила. Блестели посеребренные росой березы.
Скоро показалась старая мельница. Под разобранное колесо звонко капала вода, сочилась из-под дощатой запруды.
Михась перешагнул через желоб.
Позади мельницы, под низким дубом, Пискун рыл землю. Он рыл не торопясь, тяжело вскидывая полную лопату, и, сбросив землю, подолгу застывал над лопатой.
Михась подошел.
Пискун обернулся. Луна осветила его измученное лицо. Он казался лет на двадцать старше. Но было что-то детское в его пухлых, неплотно сжатых губах.
— Не нужно, — бросил Пискун пришельцу. — Не нужно, — еще жестче повторил он, уловив во взгляде Михася готовность помочь.
Уходить Михасю не хотелось, но он ушел, движимый властным чувством уважения к чужому горю.
* * *«Кто это еще?» — устало подумал Михась. Он уже возвращался через сад, когда заметил робко мерцавший из хлева огонек.
У пустого стойла возился старик. Кончив обметать угол, он сложил там две охапки сена и начал расстилать одеяло. Заметив Михася, старик вопросительно оглядел его, словно дивясь, что тот один.
— Не нужно, — сказал Михась и погасил лучину.
Сын понял: одна и та же забота подняла обоих в эту бессонную ночь.
— Ну что же, — спокойно сказал дед, сворачивая одеяло. — Понятия нету у людей... Нельзя отрывать мужика от сохи. К чему тогда руки приложить? Не век с пустыми руками ходить! Нет сохи — возьмется за другое... Слышишь, Михась, возьмется!..
В предутренних сумерках обозначились верхушки большого леса.
Бессмертие
В конце ноября восемнадцатого года немцы поспешно оставили Мозырь. Войска уже не внушали доверия. Ненадежные части разоружили и под конвоем двух полков вывели из города.
Отойти в полном порядке и вывезти военную добычу не удалось. По горячим следам оккупантов двигались повстанцы. Неустойчивые части бежали. Шумным потоком стремились они на родину.
Зима была у порога. Беспросветный косой дождь, карканье ворон на голых вязах, голод, усталость, слухи о революционном перевороте в Германии — все это будоражило выбитых из колеи солдат. Они бросали полки и окольными путями пробирались домой.
Тогда, в последнем усилии удержать ненадежные отряды, командование, по варварскому обычаю, отдало занятые села на разграбление озверелым солдатам.
Но в источенных червями крестьянских ларях не нашлось бы зерна и мышам на забаву. Голод бродил по дворам, тушил очаги.
Если где и пекли хлеб, варили мясо, то разве лишь в самых глухих хуторах, куда еще не добрались вражеские фуражиры. Свернув с большой дороги, солдаты кучками пошли шарить по этим сытым деревням.
Крестьяне потянулись в лес. Что ни неделя, в партизанский отряд Пискуна приходили трое—четверо, ружей не хватало. Пискун кое-как вооружил человек тридцать земляков и на пути отступающих немецких войск взрывал мосты, затоплял дороги озерной водой. По ночам смельчаки подбрасывали солдатам охапки большевистских листовок.
Дед Рухло жил теперь один — Михась, пристроив жену и сына в Заречье, взялся за винтовку. Одиночество, безделье томили старика, да и сердце ни к чему не лежало. От дедова благополучия остались всего две вспаханные борозды. И не глядеть бы на эти борозды, уже подернутые травой, на соху-сироту — в ужасе всплеснув руками, она одиноко коченела среди поля. Все сильнее тянуло деда в лес. Раза два ходил к Пискуну, но и тут ему не посчастливилось: Пискун отказал наотрез.
Старик не отставал. Отнес партизанам все, что наскреб дома: две буханки хлеба, бутылку водки, кусок ветчины!
Пискун лукаво подмигнул:
— Взятка?
— Тоже генерал нашелся — взятками задабривать! Сына пришел проведать, — соврал обозленный старик.
Не понравилась ему шутка Пискуна: в ней уже чувствовался отказ.
— Ишь расходился, старик! Слова нельзя сказать! — добродушно ответил Пискун.
— Как тут не разойтись! — приободрился старик. — Нас там грабят, по миру пускают, а вы из лесу носа не кажете, за деревьями прячетесь! .
— Шел бы ты с нами, дед, смелее бы стали! — посмеивался Пискун.
— Уселись, как наседка на яйцах! — возвысил голос Рухло.
Врал старик, партизан бранить было не за что, но дед кривил душой, честил худым словом земляков, лишь бы завести с Пискуном разговор; говорил обиняками, ходил вокруг да около, не спешил с просьбой, выжидая, когда Пискун оставит свое несносное балагурство.
«Хитришь, дед, точно я тебя не знаю!» — подумал Пискун и ловко ввернул:
— Круто приходится, дед! Народу валит много, да вот оружия нет, оружия! — сказал Пискун, не без умысла подчеркивая последнее слово.
Но была ли в том нужда? Старик и так понял его и сразу упал духом.
— Взяли бы меня! Лес велик, дело и мне найдется! Крепко враги деда обидели! Не дайте с этой обидой в могилу лечь! — упрашивал старик, но Пискун не сдавался.
Рухло и сам знал, что с оружием в лесу было туго, но все же думал, что не берут его только из-за старости.
«От беды бережет: где, мол, старому по лесу рыскать!» — подумал старик, и горько было ему казаться таким никудышным в глазах Пискуна.
Но еще обиднее стало, когда партизаны водку его распили, а хлеб и ветчину вернули не тронув.
«С чего бы? Небось чтобы старому бобылю харч не урезать, а без водки, мол, не беда, протянет. Слыхано ли дело — так издеваться над человеком!»
— Ну и шельма!.. — ворчал старик, пробираясь сквозь чащу домой.
* * *Мужики чуть ли не в преисподнюю хоронили последнюю горсть зерна, но оккупанты не унимались. Ивана Гнедка и Петра Силыча из Прудков до нитки обобрали, а потом перед всем миром наставили обоим банок на тощие бока! А те от злой обиды еще крепче язык прикусили — не дали хлеба.
Видя, что силой не возьмешь, солдаты начали воровать со складов шинели, сапоги, одеяла, а те, кто посмелее, скоро и до военной добычи добрались: стали сбывать по деревням русские винтовки, а после, пьяные в дым, лихо покручивая лоснящиеся усы, разгуливали под окнами неподатливых солдаток.
Тогда-то понадобилась Пискуну помощь деда Рухло.
Прокравшись на рассвете в Прудок, он свиделся со стариком.
Дождь лил как из ведра. Мокрый до костей, Пискун сушился у огня. С него текло, лужа на полу росла, и он все шире расставлял ноги. Дед Рухло зарывал картошку в горячую золу.
— Сущий потоп!
— Потоп, — согласился старик.
Он привстал и потрогал плечи Пискуна.
— Теперь спину погрей, — сказал он.
Исходя паром, Пискун повернулся к огню. Оглядел хату. Отсутствие хозяйки заметно было во всем. Все вещи стояли и висели на месте, но не жили они, не дышали, утратили тот добрый уют и запах, какой исходил от них под прикосновением женской руки. Котлы не пахли теплым запахом отмытого сала, цветочные горшки — влажной землей, ткацкий станок — свежей шерстью. Не лоснились стулья — не приходили гости. Зеркало покрылось пылью, погасло без женской ласки; квашня не пахла дрожжами, а постель — крепким потом усталого землероба. Вместе с хозяйкой ушли из дому все хорошие запахи. И тут понял Пискун, почему так рвался в лес дед Рухло: в избе завелась тоска праздных, потерявших смысл вещей.
В стекла били крупные капли дождя. Сырость и мрак сгущались вокруг мужиков.
— Ежели так зарядит, — нарушил молчание Пискун, — застряну в селе, не найти мне броду.
— Не найти, — согласился старик.
Как ни старался Пискун, беседа не клеилась. Старик глядел угрюмо. Развел огонь, испек гостю картошку, но ни разу не взглянул ему в лицо. Даже не спросил, что подняло его из лесу в такой косохлест.
— Помиримся, дед, — сказал Пискун.
Старик не отозвался.
«Ох, и сердит на меня!» — подумал Пискун.
Вдруг послышался грохот, глухой и мощный, как раскаты грома.
— Ишь гремит! — сказал Пискун.
— На зиму-то глядя? — насмешливо буркнул старик. — А еще лесной человек! Погляди-ка!..
Пискун быстро подошел к окну. На дороге маячили редкие фонари. Свет еле пробивался сквозь косую стену дождя. Вот, казалось, мелькнул круп распаренной лошади, почудилось дуло орудия.