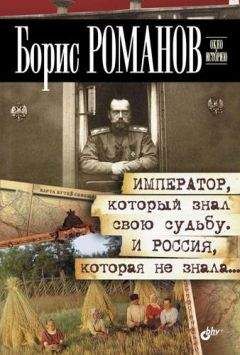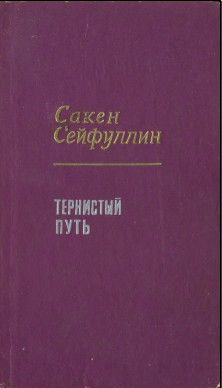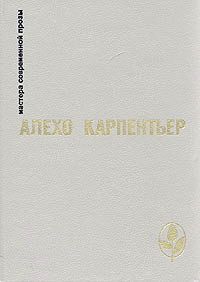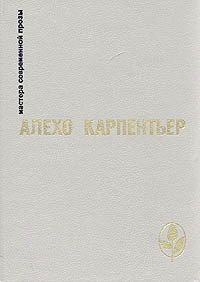Александр Лебеденко - Тяжелый дивизион
Но голова снова отяжелела, и дремота — уже не прежняя, гранитная, теперь как решето, как сетка от дождя — свалила его на прежнее место…
— Бидни оци солдаты, як ти собаки! — пропел над ним женский голос, и черные паруса юбок закачались над головой. Но Андрей и теперь не открыл глаз…
Только солнце смело усталость. Вместе с солнцем пришел Станислав.
— Ой, пане Андрею, где пан был? Пшепрашем, але пан весь в злоте. Ой, матка боска! — Он вскидывал руки кверху, качал головой, ахал и удивлялся.
— Пойдемте, пойдемте, у нас на сеновале так ладно, так ладно! Мы чуть на дворе не остались. Нашли сеновал, выгнали пехотинцев; лучше, чем халупа.
— Кто же выгнал?
— Ну, кто? Не Алданов же. Поручик Кольцов. Еднего по затылку смазал за то, же встенкнели глосно[2]. Пошли ребята на дождь. Аж шкода было![3]
Чердак был высок, как дворец, и наполнен запахом сена. Здесь дымился самовар и стояли сундуки и кровати батарейных офицеров.
Из зеленой груды сена глядели синие носки Кольцова с дырой на пятке и белые чулки Соловина. На ящике стояли хлеб и масло.
Андрей швырнул грязную куртку в сторону, с усилием стащил мокрые пудовые сапоги и нырнул в душистую сплошную сушь сена.
Разбудили разговоры; лень было отрывать голову от пригретой подушки спрессовавшегося сена, глаза оставались закрытыми.
— Холм будем защищать. Несомненно, — говорил Кольцов. — Нам нужно закрепить за собой плацдарм на левом берегу Буга для будущего наступления.
— 'а'ого будущего наступления? — критически спросил Алданов. — Разве можно теперь мечтать о наступлении?
— Видно, что вы не были в Галиции, — кипятился Кольцов. — Вы теряете присутствие духа немедленно после первой неудачи. Счастье на войне меняется.
— Счастье меняется, но есть обстоятельства, 'оторые не меняются. Разве не ясно, что в этом отступлении обнаружилась наша полная беспомощность? Нас гонят 'а' стадо зверь'ов. Мы, в сущности, совсем неспособны ' сопротивлению.
— Значит, по-вашему, мы будем отступать и дальше?
— А вы вчерашнюю газету читали? Заметили, что уже идут бои у Владимира-Волынс'ого? А знаете, что это значит? Это значит, что немцы уже заняли плацдарм на правом берегу Буга. Нам грозит быть отрезанными от России. Еще неизвестно, уйдем ли мы из Польши.
Кольцов молчал. Не видя его, Андрей живо представил себе, как он грызет сейчас ногти со злым и упрямым видом — обычная поза Кольцова, когда он чувствовал, что доводы его разбиты, больше не действуют на собеседника и не заражают его самого.
— Ну что же, оставим Царство Польское, — решил он, однако, не сдаваться. — Собственно, такой план был в самом начале войны: оставить Царство Польское и начать боевые действия на рубежах Буга и Немана.
— А если немцы не удовольствуются и этими рубежами? — опять стал наступать Алданов.
— Вы рассуждаете как шпак. Видите, мы идем почти без боев — значит, немцы выдохлись, и мы где захотим, там и остановимся.
— По'а бежим, не поспевают, а остановимся — погонят опять. Чтобы остановиться, нужны снаряды, патроны, господин поручи'.
— Что у вас за привычка каркать и каркать! — с нескрываемой злобой закричал Кольцов.
— Да, вы правы, — на этот раз тихо ответил Алданов. — Молчать лучше.
— Семен, — послышался голос Соловина, — распорядись подать лошадь. Поеду в штаб дивизии.
Андрей выставил голову из-под куртки.
Сверху, в узкое чердачное окошко, он видел, как, покачивая лоснящимся крупом под тяжелым телом Соловина, ушел могучий жеребец. А через несколько минут на вспененной лошади прискакал дежуривший в штабе Багинский.
Кольцов разорвал конверт; не надевая френча, скатился по крутой лестнице вниз, и вскоре на дворе посыпались его крикливые приказы, и все пришло в движение.
К телегам, двуколкам, зарядным ящикам несли походное барахло, от связок черных, пропахших борщом солдатских манерок до офицерских чемоданов и командирского самовара.
Фельдфебель суетился у обозных возов. Каптенармус грузил хозяйским сеном парные раскидистые телеги. Его солдаты вязали теперь пахучую гору, на которой только что спал Андрей.
Лошади брали с места рывком. С трудом извлекали глубоко ушедшие в грязь колеса и выезжали на дорогу. Подгибая шерстистые слоновьи ноги, почти касаясь брюхом грязи, могучие ардены тянули двухсотпудовые орудия и грузно вырывались вперед мимо обозных упряжек.
По соседству снимались с бивуаков пехотные и кавалерийские части, казачьи пикеты. Транспорты и батареи выстраивались по широкой дороге во вторую и третью линии.
Деревенские дворы и переулки, изрезанные тысячами тяжелых колес, словно изжеванные огромными челюстями, оставались позади.
Часть заборов, крыш и завалинок ушла ночью на костры. У поломанных крылец, у опустошенных риг и клетей стояли пришибленные и озлобленные молчаливые мужики.
Когда голова дивизиона ушла за пригорок, ветер принес с юга запах гари.
— Горит Покровское! — крикнул Багинский и поднялся на стременах. — Эх, черт, сколько добра пропадает!
Дождь то усиливался, то переставал. Горизонт всюду был окутан тяжелой, нависающей, сдвигающей свои полы мглой.
К вечеру на зеленых возвышенностях поднялся Холм.
Части проходили город не задерживаясь. Жителей почти не оставалось. Дома зияли разбитыми окнами. На дальних улицах уже курились столбы дыма и блистало пламя.
«Неужели этот большой город так же будет сожжен, как крытая соломой деревушка? — думал Андрей. — Ведь тут есть трех-четырехэтажные дома!»
Но сомнения не было. Колеса гаубиц грохотали уже по замощенным улицам центра, где у каждого дома стояли телеги. Запоздалые штабы и канцелярии грузили дела, столы, и стулья, и на порогах, на ступенях затоптанных крылец, на улице, в грязи, белела россыпь бумажных листов и синих папок.
Глубокой ночью в насквозь промоченном лесу остановилась на бивуаке батарея. Позади на юге стояло высоко поднявшееся зарево. Это, как факел, пылал Холм.
Началась мучительная ночь. Дожди растопили глину. Шапки сосен больше не спасали, от настойчивой капели. Они, как редкое сито, цедили водяные потоки и иногда неожиданно поливали, как из ушата, то или другое место. Шинели на людях промокли, как и брезенты на возах.
Во всем дивизионе не было сухой нитки. Разве только в дулах коротких гаубиц можно было найти место, куда еще не забралась всепроникающая вода. Офицеры легли на возах, зарывшись с головою в сено. Командир расположился в санитарке, где вестовой с трудом расставил его походную кровать.
Всю ночь солдаты не зажигали костра. Не было ни одной щепки, сухой ветви или травы. Дождь сейчас же заливал пламя. Костер дымил, вонял и затухал.
Андрей нарубил кривым бебутом зеленых мохнатых ветвей, набросал на корнях сосны пушистую гору, лег и укрылся шинелью. Но сон не шел к усталому телу. Капли ледяными катышками скатывались за воротник; струйки, пробравшись сквозь штанину, текли по ногам. Сапоги набухали. Казалось, лес опустился в болотную топь с людьми, лошадьми, орудиями и повозками…
Серое утро встретили вконец измученные люди. В шесть часов был дан сигнал к походу.
Позади догорали пожары. Вдоль дороги возникали новые. Дождь хмуро и упорно боролся с пламенем. Вместе с каплями влаги на руки и на лицо падали хлопья золы — серого снега, унесенного вихрями в облака с бесконечных пожарищ и теперь свергающегося вниз.
На юге, на востоке было тихо. Но с запада приходили глухие стоны земли. Солдаты говорили, что это с боями отходят части, стоявшие к северо-востоку от Келец и Люблина.
Ездовые стремились теперь покинуть седло и идти пешком, чтобы хоть немного согреться. Уступив свое место номерам, они шли гуськом по обочинам канав, размахивая руками. Ординарцы, разведчики также стремились сбыть своих лошадей пешим, хотя бы на время. Медленная езда в мокром седле, в мокрой одежде, в мокром белье была мучительна. Хотелось спать. Легко было задремать и сорваться с седла на ходу.
Обедали в зеленой роще не присаживаясь, так как дождь не давал возможности остаться неподвижным хотя бы пять минут.
Из походной кухни торчали наружу свиные и телячьи ноги. В эти дни ели мясо с супом, а не суп с мясом. Скот, богатство огромной страны, погибал на глазах. Солдаты подбирали по дорогам обезножевших телят, свиней со сбитыми до кости ногами. Покупали по дешевке гусей, кур, индеек. Нажирались до дикой, раздирающей горло икоты, до поноса…
Ночь была еще более мучительной, чем первая. Люди ходили, покачиваясь как пьяные, не будучи в силах прилечь в воду и грязь. Скрежетали зубами, безуспешно растирали синие руки. Примащивались на лафетах, на зарядных ящиках, на досках, на ветвях, в насквозь промокших палатках, которые больше не спасали от воды, чтобы вскочить на ноги при первой дремоте, когда струя, холодная и неожиданная, как случайно забравшаяся под одежду змея, врывалась за рубаху, в сапоги, за воротник.