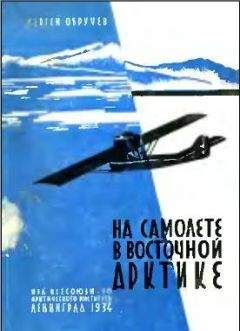Геннадий Фиш - Падение Кимас-озера
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Рассказ Тойво
В последней главе мой кровный товарищ Матти говорит, что после взятия Барышнаволока он пошел в тыл и просит других товарищей досказать о походе нашего лыжного батальона финнов Интернациональной школы.
Я откликаюсь на этот вызов и расскажу про один эпизод, который случился с нами через неделю после ухода Матти.
Сегодня выходной день, и для этого письма я урвал три часа от моей работы по лесозаготовкам, на которые мы, выполняя решения партии и советской власти, сейчас нажимаем изо всех сил. Мы тут разбились на бригады, ввели прогрессивную сдельщину, начали выполнять все шесть условий товарища Сталина и теперь по валке и вывозке древесины, измеряя фестметрами, побиваем на нашем участке канадские рекорды, и я заверяю через газету, что на нашем участке план будет перевыполнен досрочно.
Но я возвращаюсь к сути дела.
* * *Меня зовут Тойво, я есть тот самый Тойво, который научился ходить на лыжах во время этого неповторимого лыжного рейда Интервоеншколы.
Все дело было так. Я был командиром отделения в разведке.
Темная январская ночь. Все звезды высыпали на небо, заняли свои места согласно астрономической инструкции и ярко блестели на черном январском, холодном небе.
Уходя в разведку, я отдал Аалто свои серебряные часы, которые получил за дела на колчаковском фронте.
В случае чего пусть лучше товарищ попользуется, чем лахтарь.
Мы вышли из леса, который, не прерываясь, преследовал нас уже пятьдесят километров, и легко вздохнули, нащупав на поле дорожку.
Дорожка вела, очевидно, к деревне, которая нанесена была на карте — в десяти километрах от места выхода нашего из леса.
Было отчаянно тихо.
Слышен был скрип наших верных лыж и тихое наше дыхание.
Мороз стоял не меньше, чем в тридцать пять градусов.
* * *И вот в темноте ночи глаза мои разглядели шесть черных точек, шесть фигурок на лыжах.
Мы осторожно подобрались поближе, и только на расстоянии полукилометра они разглядели нас.
Мы отлично видели, что у них были винтовки, они шли вместе.
Наших сил здесь не было и быть не могло. Мы были первые бойцы Красной армии в 1922 году в этих краях.
Стало быть, это лахтари.
— Мы стрелять не можем: если вблизи у них крупные силы, они насторожатся. Захватим их в плен живьем. Их шесть, и нас шесть. Но мы коммунисты, у нас инициатива и опыт.
Говорю это я своим ребятам, а сам примеряю, правильно ли закреплен ремень, не будет ли убегать от меня на полном ходу лыжа.
— Вспомните о товарище Яскелайнене, — говорю, — и вперед!..
И мы рванулись вперед.
Видим: неприятельский дозор повернул и дает ходу обратно.
Уходят от нас.
Ну, думаю, раз они не стреляют, тревоги не подымают, значит, никаких сил лахтарских в деревне нет; значит, тем более мы обязаны их живьем товарищу Антикайнену доставить.
И командую:
— Ходу!
Мы идем полным карьером, и я уже начинаю терять дыхание, но расстояние между нами и лахтарями почти не сокращается, потому что они здорово на лыжах бегают.
Я вспоминаю дорогого Лейно и смерть Яскелайнена и начинаю волноваться, и шире расставляю ноги, и сильнее отталкиваюсь палками, и, заставляя себя дышать ровнее, бегу вперед.
Меня обгоняет на этом быстром беге товарищ.
Товарищ Яскелайнен был в разведке и попался лахтарям в плен. И мы нашли его на горячем снегу с выколотыми глазами, с отрезанным языком... Голубые глаза Яскелайнена завораживали девушек. Острый язык Яскелайнена тешил товарищей. И вот он лежит без шлема у наших ног, без дыхания, наш дорогой товарищ, таммерфорсский красногвардеец, токарь Яскелайнен...
И я бегу вперед, сгибаясь в три погибели, отталкиваясь двумя верными палками, скользя по уже проложенному первым товарищем следу.
Мы с размаху входим в следы лахтарей и уже бежим по этим горячим следам, и тишину морозной ночи нарушают мерное шуршание уминаемого лыжами снега, резкое наше дыхание и разнобой сердец.
И уже видна деревня, куда бегут от нас лахтари.
Она темнеет у горизонта, как низкорослый лесок, и не играет ни одним огоньком. И мы все-таки приближаемся к лахтарям.
Расстояние между нами сокращается.
Вся одежда делается липкой от пота; пот тяжелыми каплями скатывается со лба и, отягощая ресницы, слепит глаза.
«Мы по этому следу пойдем обратно к отряду, захватив пленных», — мелькнула у меня мысль, и я на ходу освобождаю руки из рукавов овчинного полушубка, рву пуговицы, и вместе с балахоном он падает на снег. А мы мчимся дальше...
Враги все чаще оглядываются на нас. Теряют темп, теряют дыхание...
Мы их явно настигаем...
Я бросаю шлем на снег и с обнаженной головой иду вперед.
Иду таким шагом, что сердце бьет, как колокол.
Ремень винтовки начинает снова резать плечо. Он попал на стертое место. Но нет времени поправить ремень, и мы мчимся вперед. И дыхание у каждого из нас, как паровозные дымки.
Мы лахтарей настигаем.
До деревни осталось метров двести, до лахтарей — метров сто.
Они продолжают уходить, и вот мы уже пролетели околицу.
Мы уже влетаем, разбрасывая палками снег, на главную улицу деревни, а лахтари продолжают удирать, правда, замедляя бег.
Между нами уже расстояние в пятьдесят метров.
— Бери их! — кричу я, и вдруг вижу: у стены ближайшего дома стоит дюжина пар лыж.
Лыжи прислонены к стене, а рядом торчат воткнутые в снег палки. Значит, в избе спит несколько лахтарей. Смотрю налево и вижу: там у избы тоже стоят прислоненные лыжи...
И я смотрю вперед и, насколько мой глаз в темноте различает, вижу прислоненные к стенам изб лыжи.
Так лыжи ставят, не внося в избу, чтобы они в тепле не разогрелись и снег не налипал бы, когда после, утром, снова придется надеть их.
«Да здесь никак не меньше сотни лахтарей! Даже гораздо больше».
Быстро соображая, я вижу, что неприятельский дозор заманил нас в западню. И мы попали в капкан, как хитрый песец.
Я смотрю вперед и вижу, что обогнавший меня товарищ тоже сообразил, в чем дело, и замедляет ход. Я оглядываюсь и вижу, что товарищи еще не понимают, что мы в западне.
И тогда я командую рывком:
— Хватайте гранаты!
У каждого из нас по четыре гранаты у пояса.
Мы все рвем гранаты с поясов. И еще командую:
— Швыряй гранаты в окна!
И мы летим на лыжах по дороге, как гроза, как дьявольское проклятие, и каждый бросает гранату в окно, в избу.
И звенят, рассекая морозную тишину январской ночи, разбиваемые стекла. И слышатся короткие вспышки рвущихся в избах гранат. И, разбуженные взрывами, ничего не понимающие, перепуганные до смерти, ругаясь и проклиная все, что можно проклясть, выскакивают в дикой панике из изб лахтари.
Полуодетые, забывая на месте винтовки, не успевая схватить лыжи, они в полном беспорядке бегут из деревни.
За околицу, по низам, по задам, за бани.
У меня истрачена последняя граната, я прислоняю свое лицо к раме разбитого окна и вижу невообразимую сумятицу в избе.
И вдруг возникает в деревне беспорядочная стрельба.
Я вскидываю винтовку и стреляю через окно в избу.
Затем вижу егеря в полной форме. Он кричит на бегущих в панике солдат своей лахтарской армии, он пытается остановить их, кричит им:
— Карельские свиньи, трусы!
Я спокойно беру его на мушку — и нет егеря.
Стрельба затихает. Неужели я еще жив? Неужели я даже не ранен?
И снова становится отчаянно тихо, и слышен далекий скрип чьих-то лыж.
И слышен еще около опушки взволнованный голос офицера.
Он пытается собрать свои силы.
Его ясный голос дребезжит в тишине ночи:
— Скоты! Их всего несколько человек. Приказываю остановиться.
Вдруг слышу оглушительный голос Аалто:
— Первая рота курсантов Интервоеншколы остается в деревне. Вторая рота через пять минут выступает. Третьей оставаться в боевой готовности!
Сердце мое бьет в грудь, оно сжимается где-то совсем около горла.
Молодец Аалто! Он всегда найдет, что оказать.
Итак, каждая наша рота равна двум курсантам.
Я бегу вперед, и на всем бегу правая лыжа натыкается на что-то мягкое.
Я валюсь в снег. Вылетаю с разбегу из валенок.
Пяточные ремни были закреплены слишком хорошо, и если бы я не вылетел из валенка босой ногой в снег, был бы обязательно вывих.
Лыжа моя сломана. Но я не унываю.
Я жив.
Неприятель потерпел поражение, и на выбор несколько сот пар отличнейших финских лыж.
Споткнулся я о тушу зарезанного барана.
Только теперь я замечаю своих ребят — они шатаются от усталости.