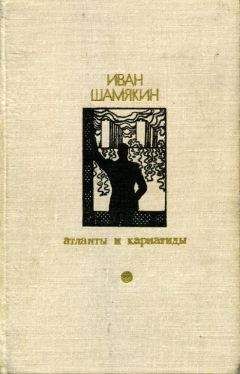Иван Шамякин - Зенит
Целую ножку.
— Другую.
Целую другую.
— А лобик?
Потом она десять раз приходит в кабинет — и все начинается сначала. Так было и в тот вечер.
— Закройся и не пускай эту хитрушку. А ты лежи и не пикни! А то пойдешь к маме. Она — не дед, чикаться с тобой не будет.
Несколько минут стояла тишина.
Успокоенный — странно, ребенок успокоил тревогу за судьбу мира! — я вернулся к своим далеким воспоминаниям, к грустным страницам, за которые не брался уже целую неделю.
На свет настольной лампы летели мотыльки. Я закрыл двери на балкон, хотя в кабинете душно — нагрело за день. Но не от мотыльков я закрылся. От музыки где-то у моря. Раньше она раздражала меня, сегодня испугала — после «шутки» президента и Марининых слов.
На мансарде — тишина. Заснули и бабушка, и внучка?
Нет. Деликатненькими маленькими пальчиками стук в дверь. Без слов. Неужели бабушка спит? На цыпочках подошел к двери. Спросил шепотом:
— Кто там? — Я.
— Кто ты?
— Я. Твоя Ваентина Петовна.
Нельзя не засмеяться от подобной хитрости; слышу, как приглушенно смеется жена.
— Ну, если ты Валентина Петровна, я не могу не открыть.
Открыл — Михалина в ночной рубашонке до пят тоже заходится от смеха: перехитрила деда!
— Дай ушко, я что-то скажу.
Взял ее на руки, и девочка зашептала влюбленно, искренне:
— Деду, хочешь, я на тебе женюсь? Как тут не засмеяться?
— Чем она тебя рассмешила?
— Наша тайна.
— Тайна! Тайна! — Михалина руками закрыла мне рот.
* * *Я написал в ту ночь про смерть Лиды. Без особых эмоций, сдержанно, серьезно, как писал свои исторические монографии. Эмоции появились, когда перечитывал написанное. Глаза наполнились слезами. Возникло странное мучительное ощущение: жутко разорвало живот не девушке, которую я когда-то любил… хотел полюбить — не успел… а кому-то из близких мне женщин…
Я весь сжался, закрыл глаза руками — может, исчезнет страшное видение.
Не услышал, когда подошла Валя. Может, она давно стоит за спиной?
— Плачешь над судьбой своих девиц?
— Не нужно, Валя.
Я знал, что жена читает все написанное мной, каждую порцию, созданную за вечер или бессонную ночь. Мне это не нравилось: мои научные труды так ее не интересовали. Прятаться было бы оскорбительно. Но такое, из-за спины, подглядывание мешало высказываться с той искренностью, о какой я поклялся самому себе.
В молодости Валя ревновала к моим «военным приключениям», как подтрунивала она, и однажды в приступе ревности бросила в печь мои военные дневники. Теперь мне казалось (возможно, ошибочно, поскольку ничего особенного в них не было), что для написания воспоминаний мне их не хватает. И у меня вдруг вспыхнуло раздражение против жены. Чуть не вырвалось: «Не смей читать, как тайный цензор». Но минутой раньше Валя нацепила мои очки, наверное, прочитала последний абзац, вздохнула и сказала:
— Прости.
Потом ласково провела по моим редким волосам и неожиданно пожалела, очень по-своему, по-женски:
— Сушишь ты свою седую голову.
Через несколько минут, когда я снова остался один, появилось желание записать события августовского вечера — мировые и наши, семейные, обычные, будничные, кусочек современной жизни людей.
7
Я сидел в маленькой комнатке за столом, заваленным газетами. Мне предстояло подготовить доклад об освобождении Белоруссии, Минска. Поручение Тужникова. Дивизион занял позиции, обжились. Налетов нет. Самое время для политической работы, прерванной передислокацией. «Кому же, как не тебе, белорусу, сделать такой доклад?» — сказал замполит на совещании батарейных парторгов и комсоргов. По логике, такой доклад надлежит делать самому заму по политической. Но Тужников, как и Колбенко, не впервые перепоручает доклады мне. Только представляют они это по-разному. Колбенко честно признает, что у меня получается лучше. Тужников выставляет объективную причину, будто бы вытекающую из высших соображений, чаще из его заботы о политическом развитии молодого комсорга.
Действительно, кому как не мне? Почетно. И радостно. Три года ожидал я этих событий, этого часа!
Газеты перечитывал, поскольку тогда, когда освободили Минск, я не мог читать их. Я ничего не мог делать. Да и в тот день не раз сводки Совинформбюро, репортажи с места боев с родными названиями городов, сел заслонялись то живым обликом Лиды, босой, с закатанными рукавами, такой домашней, штатской, полной радости и тревоги, то виденьем кровавой раны в животе. У любимых мы видим их лицо, глаза, волосы… О животе думать стыдно, неэстетично. Можем разве что пошутить насчет собственных животов, худых или толстых, голодных или сытых. Совсем иначе мы начинаем думать о животе, когда там рождается новая жизнь — наш будущий ребенок. (Как я потом оберегал живот, в котором росла Марина! Валя смеялась над моими страхами.)
Временами казалось, что было бы легче, если бы Лиду убило как-то иначе, не разрывая живот. На войне свыкаешься со смертью. Мы, зенитчики, конечно, не хоронили товарищей столько, сколько на передовой, но жертвы были и у нас, особенно в начале войны. К моей боли добавлялась какая-то необычная грусть оттого, что никогда не родятся дети — ее дети. Я ни разу не подумал — наши, такая мысль показалась бы оскорбительной для ее памяти. А вот ее дети, маленькие, беленькие, как ангелочки, представали перед глазами наяву, появлялись во сне.
Я даже признался в этом Колбенко и заметил, что он встревожился. Посоветовал: «Сходи к Пахрициной. — Но тут же передумал: — Нет. Не нужно. Просто не думай о покойнице. Не поможешь. Думай, сколько их, смертей, сколько горя… О матери ее думай».
«А жива ли она, ее мать?»
Еще одна мука: я не мог написать письмо с извещением о ее смерти. Район освобожден… Но кто там остался? Она так боялась… Последняя ее тревога, последние слова. А если родителей и вправду нет? Кто получит весть о смерти их дочери? Мы имеем только ее домашний адрес. А она же хотела написать и в Могилев, и в Осиповичи… Подожду ответа на ее письмо. Ответа ей, живой. От кого он будет? Но холодел при мысли о нем.
Выписывал из газет боевые эпизоды, а перед глазами стояла ее мать… со страшной похоронкой. Почему-то решил написать, что Лида погибла на барже от бомбы.
Все прочитал, все запомнил. Но доклад не получался, не мог я из обломков сложить дворец. Рассыпались потрескавшиеся кирпичи, превращались в песок, он плыл в моем мозгу кровавым плывуном.
Скажу Колбенко, что не могу. Он поймет и убедит Тужникова. Нет! Нельзя давать волю своим чувствам! Ты же на войне! Доклад об освобождении нашей земли — разве не гимн ее славе?! Но как сложить вычитанное в газетах и оставшееся в памяти о своей земле, своем народе в рассказ, который взволновал бы бойцов? А выступить я должен только так, а не с казенной политинформацией! Понимал: хочу большего, чем могу, на что способен, но не отступал, не сдавался.
Мешали воспоминания. Мешали шумы — крики телефонисток с узла связи. Стрекотание Жениной машинки.
Я сидел на втором этаже дома, занятого под штаб. Временное наше с Колбенко пристанище. Но временное ли? Тужников говорил о ремонте дома, поврежденного взрывом. Я ужаснулся при мысли, что придется жить там. Взмолился: «Не пойдем туда. Не хочу, Константин Афанасьевич!» Он понял меня: и ему не хотелось в тот злополучный дом. Тужников отнесся с пониманием. Или, может, Кузаев.
Я думал о своих командирах с благодарностью.
…Колбенко нес Лиду на руках до санчасти — в зеленый домик.
Вот еще причина, почему я не могу сосредоточиться: красивый и печальный домик перед моими глазами, дважды на крыльце появлялась Любовь Сергеевна в белом халате. Можно ли хотя бы на минуту забыть, видя это? Нужно повернуть стол к другому окну, в другую сторону.
Когда я, контуженный, оглушенный (говорят, несколько раз падал), добрался до санчасти и, задержанный санинструктором на крыльце, оглянулся — увидел, что под соснами стоят все, кто мог быть вблизи штаба. Девчата плакали. Быстро прошли в санчасть Кузаев и Муравьев. Через несколько минут они сами поехали во фронтовой госпиталь за хирургами — везти туда раненую было нельзя. Когда до меня дошло заключение Пахрициной о нетранспортабельности Лиды, огонек надежды, еще теплившийся, начал угасать. Мучительно, когда умирает надежда.
Мне снова стало плохо. Время разорвалось на клочья, на осколки, и я не представлял, сколько его прошло — минуты, часы.
Хирургов приехало трое.
Кузаев разозлился, что у санчасти все еще толпятся люди. Приказал всем заняться своими делами. Но печей не топить, погреба, сараи не открывать до появления минеров. Приказ не касался нас с Колбенко. Не выполнила его и Женя Игнатьева, осталась с нами на крыльце зеленого дома. Сам, наверное, не лучший с виду, я, однако, обратил внимание, какая Женя бледная: лицо ее, и так все еще обескровленное от дистрофии, тогда было словно осыпано мелом. Девушка, прислонившись к косяку, держалась за живот: она видела Лиду на руках Колбенко, и в ее животе, на боли в котором она часто жаловалась, начались страшные спазмы.
![Георгий Гуревич - В зените [Приглашение в зенит]](/uploads/posts/books/68105/68105.jpg)