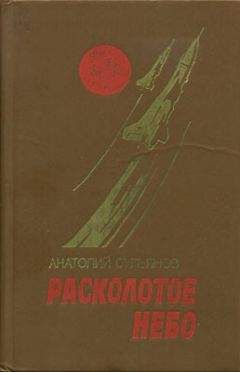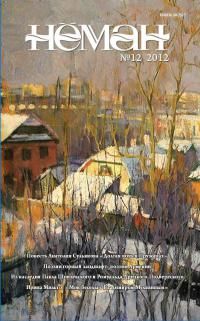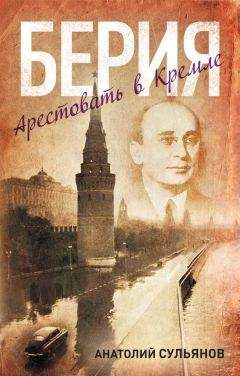Анатолий Сульянов - Расколотое небо
Вскоре Кочкина назначили штурманом наведения на командный пункт. Он долго еще не верил, что уже не летчик, и по привычке часто садился с летчиками в автобус. Спохватывался, когда подъезжали к летной столовой, выходил из автобуса и торопливо шел назад, на КП. Новую специальность осваивал неохотно, тосковал по небу, пил, таясь от друзей. Они ругали его, стыдили — с Николая все было как с гуся вода. Он хотел начать жить по-новому, но не мог…
— Возьми себя в руки, — не единожды советовал Геннадий. — Нельзя же так! Ты раскис. Но ты обязан это бремя отлучения от неба преодолеть. Трудно, но тем не менее надо! Пойми, дурья твоя голова, нынешние обязанности очень ответственны. Штурман наведения — первый помощник летчика. Тебе, летчику, больше, чем кому-либо, известны скрытые особенности перехвата, а потому ты должен наводить лучше остальных!
— Тебе легко проповеди читать! — взорвался Кочкин. — Посмотрел бы я на тебя в моей шкуре! Вы с Анатолием на полеты, а мне плакать хочется от обиды!
— Ты чего кричишь? — вмешался Анатолий. — Успокойся. Подыши по системе йогов! Старик прав, а ты выпендриваешься. Сам во всем виноват! — Анатолий в упор посмотрел на друга. — Молчишь? Так слушай, когда тебе дело говорят. Пора кончать с водкой! Сделай для себя правилом: ничего сверх меры! Алкашом можешь стать, дубина! Секретарь парткома Выставкин опять тебя видел в поселке. Говорит, ты был навеселе.
— Думаете, мне легко все это слушать? Я же хочу, хочу жить по-другому, но… — Николай развел руками. — Не получается.
— Мало просто хотеть. — Анатолий обнял друга, — Надо еще бороться!
Кочкин отвел глаза в сторону, вздохнул и подошел к окну. Из смурного, набухшего влагой обволочья неба сочился нудный, обложной дождь. Капельками оседал на деревьях, подоконнике, крышах домов, вызывая у Кочкина подавленное, гнетущее настроение…
* * *
О секретаре парткома майоре Выставкине прибывший в полк Северин узнал из рассказа начальника политотдела дивизии Сосновцева. Почти всю свою службу Выставкин провел на стоянке: был техником самолета, звена, избирали в партбюро эскадрильи, в партком полка. Человек скромный, уважительный, он пользовался в полку авторитетом. Но одно дело быть членом парткома, другое — секретарем. Выставкин так и остался «технарем»: если среди коммунистов-техников по линии парткома немало делалось, то к летчикам секретарь парткома идти опасался. Почти не занимался анализом летной работы. И не потому, что не хотел, — не мог.
А тут — летчик на крючок попался: увидел Выставкин Кочкина в поселке навеселе. Утром вызвал в партком и Кочкина, и его начальника Васеева.
— Пьянствуете, товарищ Кочкин? — Выставкин для солидности постучал карандашом по столу. — Так, так. Докатились! Живете рядом, товарищ Васеев, и не видите?
— Вижу, — холодно ответил Геннадий.
— Это же не впервой? Надо ударить побольнее.
— Уже ударили. — Васеев взглянул на Выставкина, не увидел в его глазах ни сочувствия, ни жалости, ни заботы. Словно речь шла не о человеке — о чурке. — Отстранили от летной работы.
— А выводы Кочкин сделал? Нет. Будем выносить на партком.
Геннадий не выдержал.
— Зачем вы пугаете парткомом?! Да, Кочкин виноват! И я вины с себя не снимаю. Мы помогаем ему, надеемся, что он возьмется за ум. Не надо спешить, товарищ Выставкин. С людьми ведь дело имеете, не с гайками и болтами.
— Вы… вы почему кричите? — В голосе Выставкина звучал металл. — Обоих на партком за такое поведение!
Разговор получился тяжелый, Выставкина еле успокоили. Николай встревожился не на шутку — вызов на партком ничего хорошего не сулил. Начинать нужно было с нуля: вовремя подниматься, делать зарядку, ходить на тренажи, сидеть над учебниками. Служба наведения для него, летчика, вдруг приобрела острый интерес. Не хватало времени: пока обдумает приказ, пока соберется передать его на борт — поздно.
После очередной неудачи Кочкин сидел на рабочем месте штурмана в классе и вяло листал учебник, стараясь отыскать причину срыва, когда услышал скрип открываемой двери. Вошли Васеев и Сторожев.
— Чего засиделся? Пошли домой, — предложил Анатолий, но, заметив мрачное, озабоченное лицо Кочкина, подошел ближе. — Опять хандра?
— Какая хандра! — огрызнулся Николай. — Не получается, хоть кричи! Какая-то непонятная медлительность. Боязнь ошибки.
Геннадий посмотрел на часы, снял китель и включил аппаратуру.
— Толич — на контроль с хронометром. — Стал позади Николая. — Вводная номер один: отказ генератора!
Тренировки и дежурства, дежурства и тренировки.
Постепенно Кочкин стал чувствовать, что он нужен людям в кабинах. Не раз летчики, стараясь быстрее обнаружить в темных облаках цель, просили у него помощи. Кочкин мучительно искал цель среди хаоса всплесков света, до рези в глазах вглядываясь в экран локатора. Находил едва заметную крупинку, спешил сообщить экипажу курс и высоту. И однажды в непроглядной ночной темноте, помогая молодому летчику среди плотных облаков выйти на аэродром, Николай почувствовал, что черная головка плотно прижатого к губам микрофона и небольшой, величиной с фуражку, полный сполохов экран локатора и впрямь заменили ему ручку управления в приборную доску самолета. Работать стало легче. Когда же сердце просило скорости, он шел на аэродром, находил укромное, скрытое от чужих глаз местечко в кустарнике и следил за взлетающими самолетами.
Часть вторая
…Какое одиночество испытываешь на высоте четырех тысяч метров… И потом это чудесное товарищество внизу, на земле… У меня такие шикарные друзья, что вы даже вообразить себе не можете.
Антуан де Септ-Экзюпери
Глава первая
1
Комиссия из штаба дивизии для разбора обстоятельств пожара на самолете Васеева прилетела рано утром. Из вертолета вышел заместитель командира дивизии Вадим Павлович Махов — среднего роста, хорошо сложенный полковник. Его гладкое лицо было тщательно, до синевы, выбрито, в больших серых глазах стыло нескрываемое недовольство. Он выслушал рапорт Горегляда и молча пожал ему руку. Затем подошел к прилетевшим с ним инженерам:
— Будем начинать! Вы, как и условились, тщательно проверьте техническую документацию и осмотрите самолет. Я заслушаю доклады командования об обстоятельствах пожара, побеседую с летчиком.
Машина Васеева стояла особняком, вдали от других самолетов. От нее тянуло холодом, зловеще чернел закопченный хвост.
Когда сняли чехлы, Махов и Горегляд одновременно заглянули в зияющее чернотой огромное, почти в человеческий рост, сопло двигателя. Дивизионный инженер, пригнувшись, вошел в сопло и, не скрывая удивления, произнес:
— Вот это температурка! Металл плавится! Повезло летчику.
Васеев стоял у крыла притихший, с едва заметными пятнами на посуровевшем лице и настороженным, внимательным взглядом. Он отчетливо услышал удивленный возглас инженера и подумал: «Действительно повезло».
— Да, тяги управления могли перегореть в любую минуту, — сухо произнес Махов. Смерил взглядом Васеева: — Докладывайте.
Геннадий подошел ближе к хвосту самолета и, ощущая на себе тяжелый взгляд полковника, начал рассказывать о ночном полете. Сбиваясь, объяснил свои действия на взлете, в наборе высоты и в то мгновение, когда ощутил сильный удар в фюзеляже и увидел рубиновый всплеск лампы пожара на приборной доске.
— Почему сразу не применили спецаппаратуру? — прервал его Махов.
Геннадий растерянно посмотрел на Горегляда.
— Не волнуйтесь, Васеев, — подбодрил его Горегляд.
— Под самолетом был город, — ответил Геннадий. — Если бы я включил пожарогашение, то надо было выключать двигатель и катапультироваться. Самолет упал бы на жилые дома.
— Это еще надо доказать, Васеев. Надо доказать. — Махов любил повторять некоторые слова, произнося их с особой интонацией. — А вот если бы с машиной беда случилась, вам бы не уцелеть. Не уцелеть, Васеев. Ну и, — он обвел взглядом стоящих рядом офицеров, — ну и нам, конечно. Инструкцию надо выполнять. Тогда всегда прав будешь. Всегда. Повезло вам. Так, Дмитрий Петрович? — Махов выжидательно посмотрел на Брызгалина.
— Так точно, товарищ полковник! — ответил Брызгалин, заглядывая Махову в глаза.
Заместитель командира полка подполковник Дмитрий Петрович Брызгалин — самый опытный в полку методист. Невысокий, со следами оспы на полном лице и маленькими, скрытыми широкими надбровными дугами глазами, в потертой куртке и вылинявшей рубахе, он выглядел старше своих сорока лет. Когда-то Брызгалин был весел, полон замыслов и планов, упрямо шел по служебной лестнице, но до заветного рубежа командира полка не дошел, остановился на последней ступеньке. Характер Дмитрия Петровича стал портиться с того времени, когда при поступлении в академию дважды не набрал нужных баллов. Его товарищи, пока он готовился и сдавал экзамены, летали, повышали классность. Брызгалин, отставая от них по программе полетов, оставался в одной и той же должности. Незаметно, исподволь зародилась у него зависть к сослуживцам, а потом и к молодым летчикам-инженерам, которые быстро овладевали полетами в облаках, росли по службе. Выветрилась из его души какая-то живинка, погас в глазах огонек беспокойства и стремления сделать все как можно лучше, отмерла любовь к работе, к товарищам, к небу. Стала замечаться небрежность в исполнении обязанностей, неряшливость в подготовке таблиц полетов и документов методического совета, на котором зачастую решалась судьба молодого, с неокрепшими крыльями пилота. Он чувствовал себя обойденным, не оцененным начальниками и, замечая свои просчеты и ошибки, не казнил себя за них. У него появилось ощущение, будто жизнь прошла стороной, и теперь он, не имея надежд и цели, жил без радостей и больших разочарований, исполняя обязанности от и до. Из всех увлечений оставалось одно — рыбалка.