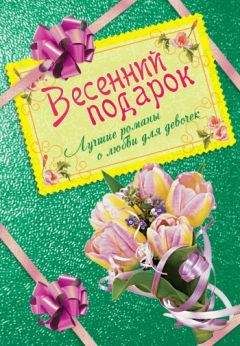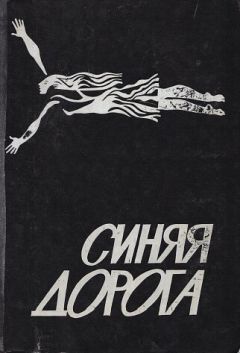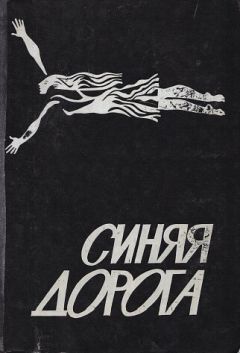Андрей Орлов - Битва за Берлин последнего штрафного батальона
– Эй, немчура, что квасим? – прокричал Антонов.
На «верхотуре» воцарилось молчание – настолько глубокими познаниями в великом и могучем немцы не владели.
– Эй, фрицы, что пьете, спрашиваем! – несколько проще выразился Овсеенко. – Шнапс, коньяк, самогон…
– О, да, да! – завопил «собеседник». – Шнапс, коньяк, русская водка!
– Не понял, – расстроился Слепокуров. – Чего это они нашу водку там поминают? Эй, фрицы, откуда у вас русская водка?
– От верблюда! – прокричал без акцента другой голос и после оглушительной паузы добавил: – Вам, сукам, все равно не оставим, не беспокойся! – и разразился такой витиеватой непечатной загогулиной, что штрафники изумленно застыли.
Мало кто знал, что войска, защищающие Берлин, абсолютно интернациональны. Коммунисты и не мечтали о такой «дружбе народов». Здесь дрались датчане из дивизии СС «Дания», симпатизирующие нацистским идеям скандинавы из корпуса «Норвегия», голландцы из дивизии «Нордланд», французские легионеры из остатков дивизии «Шарлемань», финны, венгры, латыши, ошметки частей РОА генерала Власова и бригады РОНА Бронислава Каминского – из тех, что избежали отправки в Чехословакию и оказались запертыми в Берлине…
– Ох, и надеру сейчас кому-то задницу, – начал приподниматься Ситников, исполненный благородной яростью.
– Эй, не спешите, торопыги, – проговорил позади рядовой Асташонок.
Плотный, взъерошенный, со смешным носом-картошкой – бывший командир стрелковой роты, угодивший в штрафбат за то, что по ошибке, приняв на веру слухи и домыслы, погнал свою роту на подожженный танками лес, полагая, что там притаились окруженные фашисты. Окруженцы ушли другой дорогой, а Асташонка обвинили в трусости – повезло, что к стенке не поставили.
Сейчас Асташонок притащил два немецких фаустпатрона. Один он сунул Кореничу, другой взял на изготовку… И, ловко перемахнув через расплющенное пианино, взлетел на пару ступеней, прыжком развернулся, вскидывая «базуку», и выстрелил. Не успела граната долететь до цели, он уже отбрасывал ненужную трубу, искал глазами Коренича. Максим аккуратно перебросил ему оставшийся фаустпатрон – и вторая граната унеслась вверх.
Асташонку повезло: выжил. «Безумству храбрых поем мы песню… Полными кретинами надо быть, чтобы обвинить этого парня в трусости», – подумал Коренич.
Наверху все пылало, гремело, рушилось; визжали раненые фрицы. А штрафники, сотрясая стены многожильным «ура!», уже неслись наверх, прыгая через ступени…
Как выяснилось позднее, штрафники из второй роты, активно сотрудничая с бойцами 312-го полка, отбили у противника всю лестницу и верхние этажи в северном подъезде и выдавили деморализованных немцев вниз. Их всех блокировали на третьем этаже, забросали гранатами; а потом вполне учтиво, можно даже сказать, уважительно, предложили сдаться. В ответ на «непристойное» предложение разразилась стрельба, в которой гитлеровцы израсходовали весь боезапас, после чего просочились в одну из квартир на третьем этаже, надеясь, что там проломлена стена и кому-то удастся вырваться. Но стена была целой.
Настороженные, с автоматами наперевес, штрафники угрюмо рассматривали прильнувших к стене людей. Немцев осталась жалкая горстка, не больше дюжины. Они тоскливо жались друг к дружке – оборванные, окровавленные, растерявшие пыл и задор. По комнате плавал раздражающий запах перегара – напиток, потребляемый фашистами, явно не был продуктом от лучших мировых производителей. Особенно пьяными фрицы не выглядели. Сколько нужно выпить, чтобы заглушить предчувствие смерти? Двое рядовых с заплывшими, черными от недосыпа физиономиями переглянулись, помешкали и подняли руки. Плечистый обер-ефрейтор с лысым черепом испустил душераздирающий вздох, закрыл лицо ладонями и сполз по стеночке на пол. Отвернулся к стене, уверенный, что сейчас его расстреляют, молоденький унтерштурмфюрер – недавний выпускник юнкерского училища. Осанистый, бледнокожий оберштурмфюрер (старший лейтенант по общевойсковой классификации), чью гордую стать не смогли уничтожить ни поврежденная нога, ни простреленная рука, брезгливо поджав губы, отделился от компании и, прихрамывая, побрел к окну, в котором не осталось ни одного целого стекла.
– Эй, дружище, куда собрался? – бросил Ситников, вскидывая автомат – но стрелять не стал.
Оберштурмфюрер даже ухом не повел. Он неуклюже вскарабкался на подоконник – сил подняться на ноги у него уже не было, так и остался стоять на коленях.
– Не сбежит? – на всякий случай поинтересовался Хорьков.
– Куда ему? Там наши кругом, – пожал плечами Драгунский.
– Может, стащим его с окна? – засомневался Кибальчик.
– Да ну его на хрен, – фыркнул Гуськов. – Больно надо руки марать. Устал я чего-то… Смешно, мужики, – усмехнулся он, – у меня вот кот был когда-то – точно так же на подоконнике любил сидеть. Однажды вывалился – за птичкой потянулся, – так на всю жизнь заикой сделался…
Прежде чем перевалиться за карниз, эсэсовский офицер окинул презрительным взглядом штрафников – оборванных, грязных, но победивших. Потом вздохнул – кажется, немного разочарованно, мол, почему ему никто не препятствует? И пал вниз.
– Мои аплодисменты, – оценил Борька. – Вполне себе драма.
Коренич подошел ко второму разбитому окну, глянул вниз. Третий этаж – вроде не страшная цифра; но потолки в доме были высоченными. Да и не собирался офицер остаться живым. Он лежал на брусчатом тротуаре, лицом вниз, раскинув руки, под проломленной головой растекалось бурое пятно. Перекуривающие поблизости солдаты разглядывали его без особого удивления.
– Эй! – поднял голову пропыленный ефрейтор. –
У них что там, массовый падеж? То один вывалится, то другой…
Оторвался от стены молоденький унтерштурмфюрер, не дождавшийся пули в затылок. Он старался придать лицу то же выражение, что было у старшего товарища – но выходило не очень. Он сделал шаг к окну, смертельно побледнел. Ситников злорадно засмеялся.
– Милости просим, господин офицер. Воля ваша, как говорится.
Максим перехватил дрожащий взгляд офицера, сделал приглашающий жест по направлению к окну – мол, кто бы возражал. Детские глаза вчерашнего юнкера наполнились слезами, он отвернулся, чтобы никто не видел его позора, попятился обратно к стене.
– Кто тут русский? – вкрадчиво осведомился Гуськов.
Пленные угрюмо молчали. Человека, разговаривавшего матом, в этой горстке могло и не быть. При обороне фашисты потеряли не менее тридцати бойцов, наверняка пуля достала мерзавца. Но штрафники угрюмо ждали, надеясь, что это не так.
– Какая, право слово, кунсткамера! – возвестил капитан Кузин в лихо заломленной фуражке, войдя в зал чуть не строевым шагом. – Налюбовались на пленных? Понравилось? Этапируйте их вниз, раз не хватило духу пристрелить! Приказ по фронту, товарищи солдаты – удерживать занимаемые рубежи, утром продолжать наступление. Пляшите, голодранцы, всей роте шесть часов на отдых! Но чтобы утром были как огурцы!
В пылу охватившей солдат эйфории никто и не заметил, как ненавязчиво капитан Кузин поименовал их батальон – ротой.
Подтянувшийся резервный батальон 312-го стрелкового полка заблокировал от возможных контратак Людвигштрассе и две параллельных улицы, так что штрафники действительно могли отдохнуть. Уставшие до безобразия «трофимовцы» расползались по квартирам первого этажа первого за перекрестком дома на правой стороне. Он ничем не отличался от взятого штурмом – внутри только был поцелее. Солдаты ворчали: «Если бы каждый дом в этом городе превратился в укрепрайон, то вооруженных врагов набралось бы миллионов десять, а не те 140 тысяч, что подчинялись командованию берлинского гарнизона – включая гитлерюгенд, фольксштурм, полевую жандармерию с полицией и прочих больных и необученных…»
Максим помогал переносить раненых, поэтому припозднился, и когда пришел в дом, сгибаясь от усталости, все квартиры на первом этаже уже были заняты. Чертыхаясь, проклиная высокие немецкие потолки и длинные лестницы, он взбирался по гулким лестничным пролетам на второй этаж. За ним ковыляли и выражались в том же духе Хорьков и Борька Соломатин. В доме работало электричество – что было невероятно, хотя, возможно, не так уж фантастично: бомбежка практически не задела берлинскую электростанцию. В отдельные районы еще поступали блага цивилизации. Но свет был тусклым, лампочки мигали, многие уже не горели, лопнув от перепадов напряжения.
– Пять часов осталось спать, – ворчал Борька. – Может, еще где-нибудь погуляем?
На втором этаже было четыре квартиры. Незапертой оказалась лишь одна, с номером сорок четыре. Скинув автоматы, бойцы обследовали чистые, обставленные без роскоши помещения, покосились на высокие потолки, на опрятные шторы, на галерею фотоснимков, повествующих о бытие рядовой немецкой семьи, члены которой служили в армии. Провести остаток ночи в уютном уголке было бы приятно, но на свою беду солдаты заглянули в дальнюю комнату – и приуныли.