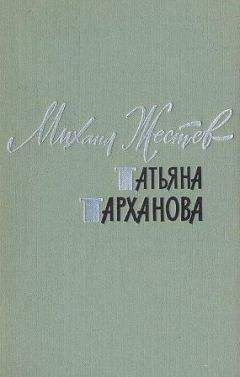Михаил Стельмах - Большая родня
— По машинам!
Скоро громче заработали моторы, и партизаны помчались навстречу рассвету. Возле кабин стояли с винтовками или автоматами наготове те, кто имел немецкую форму, а остальные притаились на дне кузовов.
Позади, в городе, усиливались гвалт и стрельба. На востоке же, над лесом, заиграли предвестники бессмертного солнца.
XXXІ
Нину силком оттянули от матери. Забилась девушка в сильных руках, напряглась всем гибким телом и снова бросилась к яме, которую второпях засыпали партизаны. Локтями и пальцами разгребла могилу и припала к холодной голове своей родной матери. Теперь песок плотно забил Марте уста, и потому ее лицо приняло более окаменелое выражение. Несколько мускулистых рук схватило девушку, и как она ни отбивалась и ни голосила, вырывая на себе волосы и разрывая одежду, понесли к машине. Неумолимое время подгоняло партизан уезжать как можно быстрее.
Только теперь девушка поняла, что такое смерть. И раньше не раз слышала похоронные колокола, видела, как проносили улицами тяжелые гробы, видела, как хоронили в братской могиле красноармейцев; в конце концов в дни оккупации смерть ежедневно гостила в селе, сжимала коварной тоской девичье сердце, но эта страшная гостья ни разу не переступала их порог, и потому представление о ней было неполным. Так неполно, душой, а не физически, мы ощущаем боль близкого человека.
Охватив руками голову, Нина забилась в уголок кузова, не желая слушать слова утешения, нервными движениями снимая с плеч чьи-то женские руки. Она хочет, чтобы ее не трогали, ибо от этого так больно, будто кто-то пальцами колупает рану.
Какие слова могут утешить, когда нет, никогда больше не будет матери, ее отрады, любви и в какой-то мере за последнее время старшей подруги. С одного взгляда, с одного полуслова ее могла понять только мать. И вот больше не увидит ее… живой. А дорогой образ, такой печальный и родной, неясным контуром встает перед глазами. И девушке не хватает воздуха, и опухают покрасневшие от слез веки, а внутри печет истомный, недобрый огонь.
Оцепенелый мозг уже не качает мысли, а как-то больно вырывает из тьмы неожиданные образы и видения и внезапно размалывает их в черные клубы пыли или вгоняет в землю…
Какое то было счастье! Осенью, воскресными утрами они всегда ходили в лес по грибы. Наклонится мать над ней:
— Вставай, доченька, пора идти.
За окном в бледно-синем небе плещется звезда, на скамье стоят плетеные из красной лозы корзины, накрытые белым шершавым холстом. На столе накипью играет в кружках пареное молоко.
— Ни пуха вам, ни пера, — скажет тетка Дарка, и мать улыбнется доброй, немного покровительственной улыбкой.
Росистыми огородами выйдут на колхозный двор, где возле тележной мастерской белеют новые, еще не окованные железом телеги, а вокруг пахнет анисимовка, пепенка, красный джонатан — сад разросся, как роща. А мать ее работает в садово-огородной бригаде.
И непременно им дед Терентий вынесет на дорогу созревших яблок и груш.
— Спасибо, дед Терентий, у нас свои есть, — скажет мать, здороваясь.
— Ешь, пока рот свеж, а как рот увянет — и сова не заглянет, — деланно хмурится. — На грибы старика пригласишь…
И вот больше нет ни матери, ни деда Терентия, ни сада — все, все истребляет проклятый фашист.
И уже это упоминание про человекоубийц является той первой ниточкой, которая объединяет ее горе с окружающим бытием…
Чьи-то руки набрасывают на захолонувшие плечи какую-то одежку, и что-то в тех медлительных мягких руках есть такое, что присуще только ее матери. И девушка с удивлением отнимает свои пальцы от глаз. Возле нее хозяйничает, тоже заплаканная, Югина.
— Накройся, дитя. Наши принесли немного одежды… из той, что душегубы содрали с нас.
Девушка хочет что-то сказать, но это так тяжело, как сердце вырвать из груди. И снова заливается слезами, но не сбросит с плеч теплых неторопливых рук, так как они ей еще больше напоминают образ матери. И в горечи холодной боли всплеснулась какая-то теплая, как слеза, волна.
Гудят машины на дороге. Вот засуетились партизаны. Ударили выстрелы, а потом чей-то радостный голос облегченно сказал:
— Проскочили.
Чей же это голос? Он так похож на голос Михаила Созинова.
Незаметно тянется тонюсенькая ниточка, связывающая ее горе с окружающей жизнью. Пусть она еще тоненькая, как паутина на осеннем кусте, не раз оборвется, но снова и снова натянется, а к ней присоединятся другие — закономерно и крепко, ибо такова сила жизни: затягивать раны рубцами, а потом и рубцы отслаивать от живого болеющего тела, делать менее заметными.
В других условиях, может, ее горе рубцевалось бы месяцами, выбило бы надолго девушку из обычной колеи, но теперь жизнь требовала от нее полного напряжения, от которого нельзя было уклониться, как от града на голом поле…
В глухих лесах похоронили Евдокию. Недалеко от свежей могилы оставили партизаны машины, так как не хватило горючего, и, почти не отдыхая, пошли точно на юг в надежде догнать своих до перехода через границу. Каждый понимал, что от этого зависело все. Голодные, почерневшие от усталости, пота и пыли, двигались лесами днем и ночью. Спали по три-четыре часа. Похудевший и состарившийся Дмитрий, с горящими красными глазами, знал теперь только одно неумолимое:
— Вперед, партизаны! Вперед!
И брал на руки подбитого сироту Ивася, еще с большей тоской вспоминая своих детей.
— Не надо, дядя Дмитрий, — просился мальчик, а сам еще крепче прижимался всем телом к командиру.
Как-то партизаны на лужайке задержали извозчика, который вез в бидонах на молочный пункт молоко. Каждому партизану припало равно по пол-литра молока. Пили поочередно из немецких никелированных баклаг. Потом остатками живительной жидкости заполнили баклаги, чтобы можно было поддержать силы наиболее обессиленных женщин и детей. Лошадей тоже забрали с собой: на телеги посадили тех, кто не мог уже двигаться. И снова твердый голос Тура:
— Вперед, партизаны! К своим!
Комиссар за эти дни совсем высох, но даже и в часы передышки не отдыхал, помогая людям. А во время марша большинство времени проводил в укрепленном арьергарде.
«Двужильный» — удивлялся Дмитрий, чувствуя, что и его уже валит усталость с ног.
— Вперед, партизаны!
Еле вставали женщины на окровавленные распухшие ноги, но надо было идти — и шли. Труднее всего было двигаться после отдыха, а потом расходилось изболевшееся тело, не так пылало и ныло.
Светлой лунной ночью их напугал какой-то мелкий и частый перестук. Дмитрий сразу с несколькими партизанами выскочил вперед и залег за деревьями. На минуту перестук замолк, а потом снова начал приближаться, ритмично и легко.
И вот на небольшую просеку грациозно выбежала пара диких коз. Очевидно, почувствовав человеческий дух, они остановились, настороженно и горделиво, немного боком, отворачивая лоснящиеся точеные головы. Еще один миг — и козы, оседая назад, метнулись бы в противоположную сторону, но их сразу же подсекли точной пулей.
Впервые за эти дни партизаны хорошо позавтракали. Пусть ели без хлеба, без соли, но мясо.
XXXІІ
Недаром Дмитрий так спешил, будто чувствовал, что за ними гонятся. После полудня все выразительно услышали на широкой лесной дороге позади себя гудение машины. Сначала арьергард, а позже боковая охрана доложили, что сзади двигаются фашисты. Насчитали с восемьдесят, но, в целом разумеется, было больше. Посоветовавшись с Туром, Дмитрий решил разбить отряд на две части. Одна под его командованием будет сдерживать фашистов, вторая часть и семьи партизан во главе с Туром как можно быстрее пойдут на сближение со своими.
— Ну, жена, крепись. Не отставай в дороге. И за девушкой присматривай, — кивнул головой на Нину. И на миг так ярко припомнил Марту, будто это она встала перед ним.
Шершавым, заросшим лицом припал к потрескавшимся в кровь губам жены, простился с Туром, партизанами, Ивасем и, слыша, как быстро, холодя тело, прибывают силы, упрямство и злоба, пошел к своей небольшой, из двадцати пяти воинов, группе.
— Есть ли сила у партизан? — грозно, одними глазами, улыбнулся, осматривая всех бойцов.
— Есть, товарищ командир, только в животе ничего нет, — шутливо ответил Желудь, который тоже сдал за эти дни, похудел и почернел.
— Это ничего — живот не воюет. Укокошим фашистов — и получим харчи. Что там в книге меню написано? — обратился к Мелю.
— Поросенок с хреном, поросенок без хрена и хрен без поросенка, — с готовностью ответил пулеметчик.
— Вот и хорошо. После боя пусть кто что хочет выбирает, а я поросенка с хреном.
И веселее стало на душе, когда почувствовал партизанский смех. Научившись в тяжелые минуты сдерживать, скрывать свои чувства от человеческого глаза, Дмитрий душевным тактом ощущал, что и когда надо сказать своим друзьям, чтобы поднять могучий дух, освежить его, как вода освежает тело человека. И это чувство пришло к нему тоже только во время войны. Он ни на минуту не сомневался: партизаны будут драться, как львы. Не всегда одинаково идет боец навстречу еще никем не разгаданной меже, где сталкиваются жизнь и смерть. Кому приходилось, сражаясь за свою землю, переступать эту межу, прекрасно поймет собранное духовное и физическое напряжение всего организма, что в обычных условиях не выдержал бы и части такой нагрузки; чудесно поймет чувство плеча верного товарища, на которого надеешься и которому веришь; хорошо поймет власть настроения, которое закаляет нас, а не расслабляет, делает железной волю, ясновидящими глаза, до крайней резкости оттачивает ум, способный из самой мелкой детали молниеносно сделать единственно правильный вывод. Поэтому-то видавшие виды воины не только умеют гнать от себя горькие мысли, даже предчувствия, но умеют и развлечь себя, круто повернуть настроение. А впору сказанное доброе слово перед боем — это тот же дождь, что не скупой слезой, а богатой жизнью поит ниву. И, наливаясь волнами глубокой любви к своим воинам, вбирая глазами суровые, почерневшие лица, он тихо продолжает: