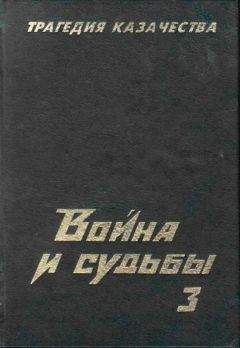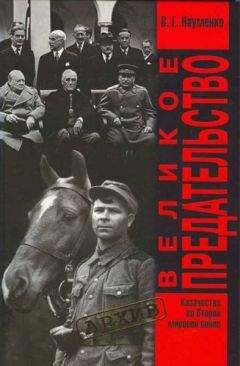Николай Тимофеев - Трагедия казачества. Война и судьбы-5
«Придурок» — в лагере не ругательство, и вообще слово не обидное и не оскорбительное. Это просто обозначение обширного класса зэков, не занятых на общих работах, а тех, кто делает что-то более легкое, то есть «придуривается».
— Но как же я попаду в придурки? — возражаю я. — Я ведь ничего не умею. Не могу же я явиться в бухгалтерию, например, и сказать: «Возьмите меня в бухгалтерию. Я ничего не умею, но очень умный». Так, что ли?
— Так или не так, а надо действовать. Ты ведь уже побывал в придурках?
— Побывал. Целый месяц. Но я тогда уже умел делать, что надо. А что я здесь умею? Ничего.
— Я вижу, что ты просто стесняешься. Но я на этой колонне с первого дня, я здесь всех знаю, и меня все знают. Я кое с кем поговорю, кое-что узнаю. Все равно я тебя пристрою.
Я не возражал.
Гришка не успел. В одно не очень прекрасное утро видим: нарядчик по какой-то бумаге выкликает фамилии, почти из каждой бригады выдергивает по несколько человек и отводит их в сторону. Все бригады уходят на работу, нас остается человек сорок-пятьдесят. Нарядчик объявляет: завтра нас отправляют на этап, и ничего больше не объясняет.
После мы все узнаем. Некий высокий лагерный начальник вдруг узнает, что заключенные со штрафной колонны возле Хунгари (теперь и поселок, и река Хунгари переименованы) разбросаны по обычным колоннам и, таким образом, теперь эти суперзлодеи и архимерзавцы живут в человеческих условиях (это в ГУЛАГе-то в 1946 году!). Больше того, этот же начальник почти с ужасом узнает, что в Амгуньлаге вообще нет штрафной колонны. Следует приказ: создать штрафную колонну и собрать туда всех разбежавшихся суперзлодеев. И пусть они там «передохнут».
Вот и вся история. Вечером я распрощался с Гришкой, он еще раз напомнил все, что он говорил о придурках.
Утром нас грузили в автомашины.
6. ЧЕТЫРЕСТА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Нас стали грузить в машину. Скажу несколько слов о том, в чем я был в то время одет. От той одежды, в которой везла меня из Австрии в Кемерово простившая меня родина, остались жалкие клочки. Дав мне десять лет, упомянутая родина взяла на себя обязательство снабжать меня одеждой, но свои обязательства выполнять не спешила. Еще когда я корчился в каменной норе, сапоги, купленные мной в давние времена за тридцать сигарет, пришли в полную негодность, и я некоторое время ходил на работу, подвязывая веревочками взамен подошв разные подобранные где-либо обрывки брезента, тряпок и прочего в этом роде. Потом мне все-таки выдали те самые знаменитые унты, описанные во многих книгах, и я о них рассказывать не буду. А сапоги, неосмотрительно оставленные мною в бараке, вечером после возвращения с работы я уже не нашел. Каждый мало-мальски уважающий себя блатной просто обязан был в зоне расхаживать в сапогах, а у моих голенища были еще в неплохом состоянии.
Когда наступили солидные морозы, мне выдали ватный бушлат, ношеный, но еще вполне пригодный.
Сажали нас в машины нечеловеческим способом: сначала набили полный кузов зэками стоя, а затем скомандовали: «Садись!», и тут же последовал дополнительный окрик: «У кого голова будет торчать, буду бить прикладом!» Не могу сказать, была ли эта угроза исполнена; мне, во всяком случае, не досталось. Видимо, моя голова не торчала.
При таком способе посадки сесть нормально хотя бы на пол кузова было невозможно: садились друг на друга. Я сел очень неудачно: на моих ногах сидело по человеку. Все мои попытки как-то улучшить положение ног успеха не имели. Сначала было очень больно, потом стало вроде бы затихать.
Можно понять, что не хватало транспорта, но зачем было заставлять живых людей находиться в таких мучительных позах, да еще и с наклоненными головами, этого понять было никак невозможно. Скорее это было откровенное желание причинить дополнительные страдания.
Ехали долго. Миновали поселок Дуки, где находился штаб нашего четвертого отделения, пересекли по льду Амгунь, еще километров двадцать, и вот показалась зона, но не проволочная, а из жердей, вертикально зарытых в землю. Кто-то сказал, что это сделано специально для штрафной, но я думаю, по другой причине — просто не хватило проволоки. На этой стройке постоянно чего-то не хватало. Всю эту колонну мы строили, не применив ни одного гвоздя, а при необходимости рубили замену гвоздям из проволоки соответствующего диаметра.
Открыт задний борт, команда «Вылезай!» Пробую вылезать, не получается: не чувствую ног. Кое-как сползаю вниз, хочу стать на ноги, но не могу — ног нет. По какой причине это произошло, не знаю: или от сидения на ногах людей, или от мороза, или от того и другого вместе, но встать не могу, — и ни удар приклада, ни пинок валенком не помогают.
По команде конвоя двое из моих спутников хватают меня под руки, волокут по снегу через ворота, втаскивают в палатку и бросают на жердевом полу.
Добрые души из старожилов палатки (как выяснилось потом, они узнали меня по Хунгари) уложили меня на нижние нары и сняли унты. Пора было что-то делать; я отмотал портянки и начал мять и массировать бесчувственные ноги. Мне показалось, что делал я это долго, и уже начал разочаровываться в своих усилиях, как вдруг колонуло в одном месте, потом в другом, третьем, десятом, и вскоре обе ноги все целиком стало колоть бесчисленным количеством мелких уколов. Я даже попытался встать на ноги, но у меня вновь ничего не вышло: раньше я не мог стоять, потому что не было ног, а теперь — ноги были, но держать меня не могли из-за боли. Но все на свете когда-то кончается, ноги мои восстановились, и я начал выяснять местные обстоятельства.
Это была 414-я штрафная колонна, которая надолго потом стала пугалом для всех заключенных, сначала в Амгуньлаге, а затем и в Нижне-Амурлаге, куда вошел Амгуньлаг. И вообще в то время несколько раз реорганизовывали систему дальневосточных лагерей — то соединяли, то разъединяли, а мы обо всех этих фокусах лагерного начальства просто не знали.
Колонна была в самом начале своего существования; ни в зоне, ни за зоной еще не было ни одного рубленого здания, только палатки, большие и малые. Видов работ было только два: лесоповал и плотнично-строительные. Вспомнив, что еще во время работы в шахте я имел кое-какое отношение к искусству владения топором, я решил идти в плотники, хотя и плохо представлял себе, что мне придется делать. Зато с лесоповалом я уже был достаточно знаком, и он мне не понравился. Особенно теперь, когда в тайге было уже по пояс снегу.
Со следующего утра я уже трудился в одной из двух плотницких работающих в зоне бригад. А еще одна бригада рубила за зоной здания казармы охраны и дома для начальства.
В бригаде, конечно, сразу поняли, что никакой я не плотник, но я старался, у меня появился хороший, почти постоянный напарник, и я быстро постигал азы профессии. Великим мастером я не стал, но к концу своего пребывания на 414-й я уже рубил стены из бревен «в полдерева» или по-старорусски «в охряпку», укладывал «в ласточкин хвост» балки и лаги, готовил и устанавливал стропила и даже настилал полы.
Так началось мое пребывание на 414-й штрафной, и это стало за всю мою жизнь (а мне уже 78) самой тяжкой частью. Где-то в Священном писании сказано: «.. и мерзость запустения, и стон, и плач, и скрежет зубовный», — так я считаю, что это написано именно о 414-й штрафной. А если кто-то скажет, что люди написали это за несколько тысяч лет до существования 414-й и вообще советской власти и НКВД, отвечу: на то они и пророки.
Было что-то и отрадное. У меня сразу появился приятель. Звали его по формуляру Вильгельм Кац, он же…, он же… и он же, и одним из «он же…» был Ярослав Хмелевский, что и являлось его настоящим именем. Я сразу уловил его польский акцент и заговорил с ним по-польски; он страшно обрадовался, но уже через минуту понял, что никакой я не поляк, но это не помешало нам крепко сдружиться.
Он был на год старше меня и до войны жил во Львове; отец его — известный львовский врач; у них был двухэтажный кирпичный дом, служанка и пароконный выезд с кучером для посещения больных на дому. Славка ничего не знал о партийных делах отца, но когда «советский народ протянул братскую руку западным украинцам», вся жизнь их семьи рухнула. Через две недели после вступления Красной Армии во Львов забрали отца, а еще через неделю — мать. Славку поместили в детский дом, откуда он бежал много раз, но пока он плохо говорил по-русски и совсем не знал советских порядков, его ловили очень быстро и водворяли в очередной детдом. Но время шло, он взрослел и уже стал профессиональным «домушником» со всеми необходимыми уголовными связями. В последний раз его схватили с поличным в Свердловске, он назвался, как и несколько раз до этого, первым пришедшим в голову именем и стал, таким образом, Вильгельмом Кацем.
В законе он не был, но среди уголовников пользовался определенным авторитетом, и на всяческие их сходки-совещания неизменно приглашался. А парень он был хороший.