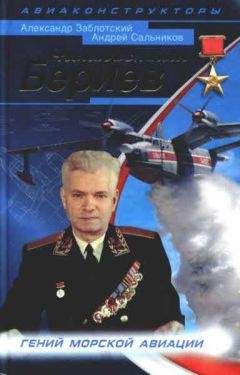Олег Сидельников - Пора летних каникул
Врага били, жестоко били. Но, если судить по сводкам, враг, в свою очередь, крепко бил нас. И лез напролом.
В эти дни казалось, что все люди, очищенные от житейской накипи горем и ненавистью, забыли о бытовых неурядицах.
После очередной бомбежки было нелепо слушать скандал двух соседок, сцепившихся из-за… Черт их знает, из-за чего они сцепились!.
Англия подписала с нами соглашение о совместной борьбе против фашистов. Мы ликовали.
По ночам отчаянные головы хватали ракетчиков, наводящих вражеские самолеты, в городе смертным боем били паникеров, тушили пожары, а в это время белобилетный донжуан, наглухо занавесив окно, тихонько обольщал между налетами какую-то корову сладеньким голоском патефонного Козина:
Утомленное со — о-олнце
Нежно с морем проща-а-алось,
В этот час ты призна-а-алась,
Что нет лю-убви…
Трагическое шагало в ногу со смешным. Мы были убиты известием о налете фашистских бомбардировщиков на Москву. И в этот же день обнаружили, что пройдоха Жук отыскал наши рюкзаки, спрятанные под задним крыльцом, разорвал их и сожрал печенье, сухари, конфеты.
Дни и ночи, сведенные судорогами бомбежек, расколотые огнем и секущей сталью, взбудораженные диковатым словцом — «эвакуация»!
Поначалу это слово произносили шепотом. В окрестные села увозили детишек и нервных женщин. Как-то утром исчезла Софья Борисовна. Куда ее понесло на вечно отнимающихся ногах? Потом пришел Глеб и сообщил: через два дня остатки труппы (подростки и невзятые в армию) эвакуируются в Ростов.
Втянутые в водоворот последних громовых дней, мы чувствовали себя на настоящей войне. По-прежнему говорили о фронте, но, как мне кажется, сейчас разговоры эти утратили спортивный азарт. Еще несколько раз заглянули в военкомат, опять нам сказали: «До особого распоряжения». Не знаю, как у ребят, а у меня мелькнула подлая мысль: «Все, что ни делается, — к лучшему». Жалко было оставлять маму и папу. И без того они постарели. Давно ли папу приятели в шутку звали «Кудрявым Джеком» за то, что он здорово смахивал на писателя Джека Лондона. А сейчас он никакой не Джек и кудри растерял; так — крепкий старик и силища — дай бог каждому. А мама? Больно на нее смотреть. Все молчит, в себе скрывает. Говорят, когда все в себе переживают, это хуже. Я ее помню совсем молодой, светловолосой, красивой. Куда эта мама девалась? И я еще сбегу на фронт! Совсем старушкой станет.
Впервые я позавидовал Вильке. Вот кому благодать! Ни родителей, никого, делай что хочешь. Глеб, мне кажется, тоже ему завидует, хотя у Глеба только отец, а мать давно умерла. И у Павки, — честное слово, не вру! — кошки на душе скребут. Но Павка виду не подает. Едва Глеб рассказал о телеграмме, Павка решительно взмахнул рукой:
— В нашем распоряжении, ребята, два дня… Даже один. Не можем же мы допустить, чтобы Глеба эвакуировали в тыл, как беременную женщину! Это было бы не по-товарищески.
Глеб густо покраснел.
Тут поднялся Вилька (мы сидели на траве, возле щели-бомбоубежища):
— Гад буду, если не достану сегодня еще два комплекта. Малинкой санитара подпою, а достану! — Вилька сверкнул шальными своими глазищами, показал золотой клык и резко, словно ножом полоснул, чиркнул большим пальцем себе по горлу.
Мне даже не по себе стало — настоящий урка! Глеб скривил губы, он не любил таких фокусов. А Павка прямо-таки взбесился.
— Ты свои блатные штучки брось! — накинулся он на Вильку. — «Гопсосмыком» и «Сонек-золотых-ручек» нам не требуется. Завязал — так завязал, давай по-честному. Забудь о блатном трепе и прочих «гад буду». Воевать надо с чистой совестью и чистыми руками. Ясно? Правильно я говорю, ребята?
Глеб и я поддержали Павку.
— Нечаянно-я, ребята, — каялся Вилька, — сорвалось с языка… Глеб меня расстроил дурацкой телеграммой, ну вот и взыграло. Я ж не нарочно! Сам понимаю насчет совести и чистых рук… — тут Вилька замялся и посмотрел на нас жалобными глазами. — А как же… ну насчет двух пар гимнастерок и штанов? Вдруг не поменяют?
Тут пришла наша очередь краснеть и хлопать глазами. Павка выглядел совсем несчастным. Мы долго молчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза.
Выход нашел Глеб. На этот раз его удивительная логика оказалась спасительной.
— Ребята, — произнес Глеб, задумчиво потирая переносицу, — все, что говорил Павка, все правильно, и ты, Вилька, не обижайся, он тебе дело толковал. Если у кого в сердце смутно, а в голове дурацкие мыслишки… ну, если кому на фронт охота потому, что часы с фашиста можно снять или «железный крест»… таких нам не надо… — Вилька сжал кулаки, но Глеб опередил его — Не злись, Вилька, я не о тебе. Так просто. А если хочешь… я и о себе говорю… А что, — только не врите, — не было у вас у всех тайного желания привести с фронта разные фашистские побрякушки, а? По-честному.
Мы молчали. Павка один откликнулся:
— У меня — нет, честное комсомольское. Глеб посмотрел в честные глаза Павки.
— Ты — другое дело. Ты — парень-гвоздь. А, вот за Вильку и Юрку я не уверен. И за себя, если по-честному, — тоже. У нас блажь в башках. Ее надо вышибать, факт. Поэтому я предлагаю, чтобы Павка был нашим командиром. Согласны?
Павка фактически давно уже командовал нами, поэтому никаких разногласий на этот счет не возникло.
— Вот и хорошо, — невозмутимо продолжал Глеб. — Остается решить проблему обмундировки. Вилька тут намекнул… и поскольку он завязал… Слушайте, как я предлагаю. Вилька, Конечно, сделает все, как надо. А если не получится, тоже не беда. Раненому гимнастерка не нужна? Не нужна. А нам нужна? Еще как! Если бы нас взяли в армию, выдали бы форму? Конечно! Следовательно, получается так на так…
— Голова! — восхитился Вилька. — Царь Соломон плюс все его семьсот подруг жизни.
— Не увлекайся, — остановил его Павка. — В этом надо еще разобраться.
Мы возмутились:
— Чего разбираться?
— Глеб дело говорит.
— К тому же, — пояснил Глеб, — я это предлагаю на крайний — случай и… в последний раз.
Павка подумал-подумал и согласился: пожалуй, Глеб и в самом деле все хорошо объяснил.
Мы разошлись. Вилька помчался на вокзал, Павка — в горком комсомола (вдруг все-таки о нас там вспомнили), Глеб и я — по домам. Договорились встретиться на дежурстве.
Дома было тихо, тоскливо и попахивало эвакуацией, хотя о ней никто и не заикался. Мама сняла с окон занавески, уложила чемоданы. Только книги по-прежнему стояли на стеллажах. Но я понимал: если что случится, книги и прочее придется бросить. Впрочем, бросить — это перестраховка. Не дойдут немцы до Днепра — кишка тонка! И все равно тревога не оставляла. И очень жаль маму. Бедная! Уж лучше бы меня призвали, все легче. А так… Я уже сбегал из дому.
Произошло это в Ярославле. Мне было тогда одиннадцать лет. Меня усиленно учили играть на рояле. С болью в сердце долбил я идиотские упражнения Ганона.
Ганон представлялся мне костлявым злодеем с громадной дирижерской палочкой в желтых костлявых пальцах, которой он, содрогаясь от наслаждения, лупит по головам мальчишек и девчонок, когда они не совсем чисто отбарабанят его бесконечные «тра-та-та-ти-та-ти-та-ти-та-ти тру-ту-ту-ти-ту-ти-ту-ти».
Мне было страшно, и, должно быть, поэтому я довольно резво выстукивал его нелепые выкрутасы, вывихивающие пальцы.
А учительница восторгалась моими успехами и все твердила маме и папе, что я одаренный мальчик, настоящий вундеркинд. Она говорила им об этом по секрету, но я догадывался обо всем. Еще бы не догадаться, если она выжимала из меня все соки. Не успел я разучить какую-то муру под названием «Веселый крестьянин, возвращающийся с работы», как меня заставляли, барабанить вальс из «Фауста». После вальса на меня обрушились всякие другие штуки. А потом пошло!.. Полонез Шопена, прелюды Рахманинова, седьмой вальс Шопена…
Все было бы ничего: Мне уже нравилось играть на рояле, хотя порой брало зло: ребята бегают купаться на Волгу, играют в футбол, воруют в чужих садах яблоки, а я, как последний остолоп, гоняю нескончаемые сочинения Ганона. И все же я терпел. Рахманиновские прелюды меня даже захватили. Однако учительница была почище Ганона, — она тащила все новые и новые тетради с нотами.
Я взбунтовался из-за «Турецкого марша» Моцарта. Его, видите ли, следовало играть так, чтобы выходило воздушно, бисерно. И это меня бесило. — Кроме того, меня бесило название. Почему — «Турецкий марш»?! С таким же успехом этот марш мог называться малайским, бразильским, огнеземельским.
И я, назло учительнице, стал буксовать. Две недели она тщетно добивалась от меня бисерности и воздушности. Я стоял на своем. Она упорствовала, в раздражении щелкала меня по пальцам линейкой, которой обычно дирижировала. Я косился на свою мучительницу, и во мне все кипело. Физиономия у нее была, как у лилипутки — моложавая и обрюзглая. Теперь-то мне понятно, что я имел дело со старой девой, но тогда я считал ее ведьмой, приспособившейся к Советской власти.