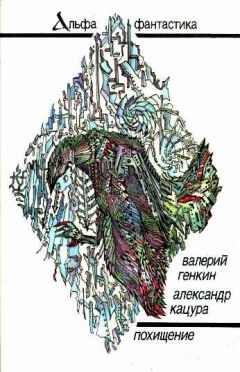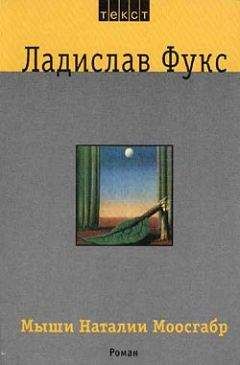Ладислав Мнячко - Смерть зовется Энгельхен
Мы захватили немцев врасплох. Некоторые, раздетые до пояса, продолжали еще загорать на лужке. Их быстро обыскали. Все происходило без единого слова, каждый знал, что делать. Группа, которой командовал Гришка, занялась осмотром палаток, ребята тащили из палаток оружие, два новых немецких пулемета, несколько фаустпатронов, семь автоматов, сорок ружей, ящики с патронами, гранатами и драгоценные для нас вещ» — два полевых бинокля. Потом сняли палатки — пригодятся. Их было десять, каждая разделена на четыре части. Так что можно даже разрезать их и использовать брезент. Палатки обрадовали нас больше всего — палатки и пулеметы.
Все кончилось невероятно быстро. А Петер сгорал от нетерпения. Его так и подмывало уничтожать, жечь, стрелять.
— Ну что? Пора, — торопил он Николая.
— Постой, пусть оденутся.
Петер, ворча, отошел — что это за церемонии?
— Эй, вы, — крикнул я полуголым немцам, — одевайтесь. Только dalli… dalli![15]
Они не двигались. Не верили. Верно, чувствовали себя в безопасности, сбившись в тесный кружок. Они считали, что это ловушка, ждали, что мы всех их перестреляем, и никто не хотел быть первым.
— Ну, скоро? Или вам нужны камердинеры?
— Друзья, — взывал к ним капитан, — ничего не бойтесь, вы все останетесь живы. Русский офицер дал слово…
Они не верили, не могли верить. Что такое слово русского офицера? Николай разозлился.
— Скажи им, что мы прогоним их так, как они есть, если немедленно не оденутся. Вот скоты…
Это подействовало. Немцы сначала нерешительно, а потом торопливо стали подбирать свою одежду и возвращались на прежнее место; только там, снова сгрудившись вместе, они одевались. Среди тех, кто не успел еще одеться, был и лейтенант.
— Немцы, — начал Николай. — Мы не можем взять вас в плен и договорились с вашим капитаном, что, если вы сдадитесь без сопротивления, мы сохраним вам жизнь. Мы отпустим вас. Нам ничего не стоит истребить вас всех, но теперь, перед самым концом войны, нам нет охоты зря проливать кровь, даже немецкую. Вы сами понимаете, что это не от любви к вам. Запомните хорошенько этот день. Возможно, это воспоминание поможет вам в тяжелые времена, которые настанут для вашего народа после войны…
Николай говорил убедительно. Я все перевел. На этот раз они поверили. В группе испуганных пленников начался шум, движение, немцы оживились, стали нетерпеливы. Петер же принялся за уничтожение, он взялся за дело со всей страстью, — стараясь вовсю, — чтобы ничего не осталось. Партизаны его подразделения увлеченно и тщательно разрушали все, что попадалось им на глаза. Сложную и громоздкую авиационную радиоаппаратуру, лампы, антенны, дорогие приборы они уничтожили в первую очередь. Я услышал, как один немец сказал своим:
— Теперь наши не полетят.
Потом очередь дошла до четырех грузовиков, динамо-машины, трансформаторов, персональной капитанской машины, десяти цистерн бензина и нефти. Продовольствие мы нагрузили на две телеги, забрали все одеяла, немцам оставили только их личные вещи. Тарасу досталась еще одна затрещина от Николая, когда он проявил интерес к часам немецкого радиста.
Петер с помощниками полили все бензином, и вскоре воздух наполнился дымом и запахом горящей нефти, жженой резины, тряпья. Я взглянул на часы. Не прошло еще и получаса с той минуты, как мы пришли сюда.
Немцы с тоской следили за огнем. Они успели приободриться, это снова были немцы. Лейтенант спросил громко:
— Когда вы отпустите нас?
— Как только все догорит.
Немцы тихо переговаривались о чем-то. Потом лейтенант выступил вперед:
— А что будет с нашим командиром?
— Он останется с нами.
Немцы разволновались.
— Вы не имеете права. Мы требуем освободить капитана.
Это заявление рассердило Николая.
— Скажи, пусть посмотрят на то, что у них перед глазами.
А посмотреть было на что. Восемьдесят человек, грязных, взлохмаченных, небритых, опоясанных пулеметными лентами — это считалось у нас крайней роскошью, — держали на прицеле пятьдесят невооруженных немцев с поднятыми вверх руками. Партизаны стояли сердитые, нахмуренные, пальцы их готовы были нажать на спуск — и дело было бы сделано. Если бы у кого-нибудь из партизан отказали нервы, если бы хоть один сказал «а что?..». Если бы хоть один немец сделал неосторожное движение… Мне даже хотелось, чтобы произошло что-нибудь подобное.
Немцы поняли. Они замолчали, втянули головы в плечи. Но люди, даже потерявшие себя от страха, все равно не становятся невидимыми.
— Пусть опустят руки, только чтоб без глупостей, — разрешил Николай.
Петер завершил между тем дело разрушения. Его черные, как угли, глаза так и горели яростным сладострастием, он был точно пьяный.
— Спроси капитана: хочет он проститься со своими?
Капитан взглянул на Николая с благодарностью.
— Скажите вашему командиру, что он очень любезен.
— Ерунда, — пробормотал Николай. — Даже перед смертью они со своими глупостями… И слушать-то неловко…
— Немцы, ваш капитан хочет проститься с вами.
— Alles gute, Jungens![16]
— Lebt wohl, Herr Kapitän![17]
— А теперь — вперед! И поскорее. Лейтенант, примите командование!
Едва успел лейтенант отдать первую команду, как беспорядочная толпа немцев превратилась в солдат вермахта. Они мгновенно построились. Подразделения Гришки и Николая конвоировали их.
— Немцы, запомните этот день! — крикнул им вслед Николай.
Лейтенант отдал команду, немцы зашагали по дороге, с обеих сторон дороги шли партизаны с ружьями на прицеле.
Меня охватила злость. Даже такие минуты ничему не научат их! Выучка, муштра — и все! Ну, постойте же!
— Песню! — закричал я.
Лейтенант удивленно посмотрел на меня.
— Да, вы не ослышались. Песню, маршевую песню, как положено в немецкой армии. Организованно, громко, как можно громче! Эй, песню!
Лейтенант пожал плечами.
— Песню! — приказал он.
— Песню! — повторил левофланговый.
— «Розе-Марие», — предложил низкорослый солдат из последней четверки.
Да, у них все организованно, продуманно, уточнено!
— «Розе-Марие»? Нет, не подойдет!
— Другую песню! — приказал лейтенант.
— Другую!
Теперь они не знали, какую песню выбрать. Но я знал:
— «Es zittern die morschen Knochen!»[18]
— «Es zittern die morschen Knochen!» — повторил первый в колонне.
— «Es zittern die morschen Knochen!» — повторил самый последний и начал равнять шаг.
— Отставить! Смелее! Громко, изо всех сил! — скомандовал я.
Приказ повторился снова в том же порядке. И наконец они изо всех сил заорали:
Es zillern die morschen Knochen
der Welt vor dem grossen Krieg.
Wir haben die Ketten gebrochen,
fur uns war’s ein grosser Sieg.
Wir werden weiter marschieren,
wenn alles in Scherben tällt.
Denn heute hort uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt![19]
— Отставить! Начать снова! Вы что, слова перепутали? Забыли?
Германия наша сегодня,
А завтра — вселенная вся! —
вот как там. А ну — еще раз!
— Отставить! Еще раз! — приказал вконец расстроенный лейтенант.
Они запели снова. Пожалуй, только один лейтенант понял, для чего нужна была эта комедия.
Мы довели их до опушки и там остановились. Остановились и немцы.
— Почему стали? Вперед! Вперед с песней!
Они зашагали дальше строем по подтаявшей стерне. Ноги их вязли в грязи, но они ровняли шаг и пели. Время от времени кто-нибудь из них боязливо оглядывался. Правда это или жестокая шутка? Неужели они так дешево отделались? И мы не перестреляем их здесь, на этом поле? Неизвестно, кто из немцев первый пустился бежать… Через минуту бежали все, бежали от смерти. Петер не удержался, выстрелил в воздух. Немцы были уже далеко, но все бежали и бежали.
— Всех их надо было перебить, — не успокаивался Петер.
Я не любил Петера. Мне была отвратительна его жестокость. Он храбрый парень, отчаянно храбрый, немцев бьет по глубокому убеждению, но в моих глазах он разбойник, гангстер. Вся его повадка, его хладнокровие, то, как он держится, как ходит, его внешность, его манеры — все в нем отвратительно. Самое дорогое для него — это оружие.
Я не любил Петера, но в ту минуту согласился с ним. Было бы лучше всех их перестрелять…
— А что было с капитаном?
А с капитаном, в самом деле… Нелегко об этом рассказывать.
Мы воротились на хутор. Пленник наш сидел на земле, полностью покорившийся своей судьбе. Книгу он все еще не выпускал из рук, держал ее так крепко, как будто это была его жизнь.
Я взглянул на блестящий золотом корешок.
— Что это у вас?
— А, «Сага о Форсайтах»… Вы разве знаете? — удивился немец.
— Знаю. Но я знаю и то, что книга эта в Германии запрещена Гитлером.