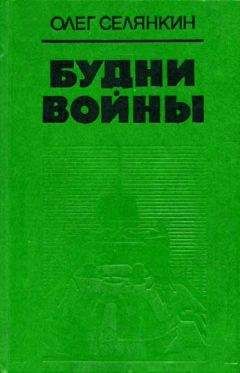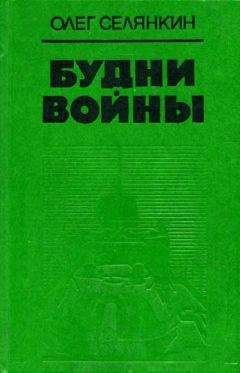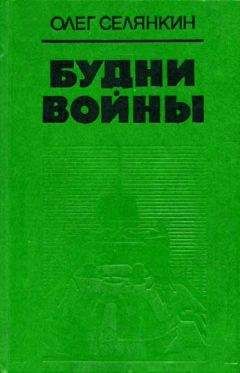Олег Селянкин - Будни войны
Кроме того, Юван считал только себя виноватым в том, что длинный капитан убежал в ночь: нельзя было задавать ему такие умные вопросы.
Юван очень уважал длинного капитана. За спокойствие во время вражеских бомбежек и минометных обстрелов, когда даже ему, Ювану, порой становилось немного страшновато, за четкость немногословных приказов и команд, за умение сидеть молча у огня и главное — за рост. Даже тайком подумывал, что хорошо бы, когда будет убит последний фашист, заманить длинного капитана в свое стойбище и женить на дочери, которой скоро исполнится уже шестнадцать лет; случится это — в их народе самыми высокими, самыми видными станут внуки его, Ювана!
Ночь встретила их легким морозцем, невесомыми снежинками, плавно скользившими в неподвижном воздухе, и полной тишиной. Лишь на том, северном, берегу Финского залива, где-то в районе Лисьего Носа, падая, нехотя догорала вражеская белая ракета.
Даже плохо верилось, что каких-то часа два назад здесь угрожающе звонко рвались фашистские мины и их горячие зазубренные осколки разноголосо повизгивали, раздирая воздух.
И даже воя той собаки сейчас не было слышно. Сдохла она, что ли?..
Та собака — огромная овчарка с глазами, налитыми кровью, — впервые дала о себе знать суток десять назад. Всю ночь она тогда провыла, словно жалуясь на свою судьбу.
На другой день утром, когда отгремели разрывы очередного фашистского минометного налета, капитан Исаев сам пошел взглянуть, что это за собака и почему она почти непрерывно воет так тоскливо. Нашел ее в разбитом снарядом трамвайном вагоне; вражеский снаряд попал в него так хитро, что начисто срезал название маршрута, по которому трамвай еще недавно бегал; только номер — 29 — и оставил. К обгоревшей железной стойке в вагоне цепью и была привязана собака.
Увидев капитана Исаева и сержанта Перминова, овчарка, оскалив впечатляющие клыки, рванулась к ним. Цепь отбросила ее назад. Так повторилось несколько раз. Но овчарка не успокаивалась, она все бросалась и бросалась на пришельцев, предупреждая их, что до последнего своего дыхания намерена защищать, охранять то, что доверил ей хозяин.
— И чего такого пса здесь цепью прикрутили? — недоумевающе повел плечами сержант Перминов. — Бесчеловечно это. Своего верного друга на голодную смерть обрекать.
— Сейчас ты, пожалуй, пальцем небо дырявишь, пожалуй, чтобы спасти, хозяин и привел собаку сюда. Что ни говори, а теперь она в непосредственной близости от фронта. Чует мое сердце, в душе надеялся ее хозяин: авось кто из фронтовиков подберет кобеля. Ведь у нас паек чуток побогаче.
Верно, фронтовой паек побогаче, чем у жителей Ленинграда; правда, с него жиру и грамма не нагуляешь, зато и доходягой не скоро станешь.
Сегодня тот пес, похоже, настолько ослабел от голода, что и выть не может…
Вокруг было тихо, сказочно спокойно. И капитан Исаев решился, он сказал сержанту Перминову, что сходит до того трамвайного вагона, в котором на привязи томится собака. Сгуляет только до него, лишь глянет, жива ли та псина, и сразу обратно. Думается, более двадцати минут все это не займет.
Сегодня пес, вовсе обессилевший от голода и холода, уже не скалил зубов, он, лежа в закутке, образованном оторванной обшивкой трамвайного вагона, даже не шевельнулся, лишь глазом покосил. И заворчал. Больше, пожалуй, жалобно, чем угрожающе.
Глядя на лобастую голову, бессильно упавшую на вытянутые передние лапы, капитан Исаев понял, что голод и холод сломили (или только согнули?) этого пса, что сейчас он уже почти забыл своего недавнего хозяина, что теперь он ничего не охраняет, а лишь ждет помощи от людей. И в душе капитана Исаева вдруг зашевелилась, заворочалась, пробуждаясь, жалость, которой на войне вроде бы и вовсе нет места.
А Юван, присевший на корточки почти около морды пса и тыча в направлении ее холодной трубкой, неторопливо говорил:
— Совсем плохой собака. Охота нет, ехать нет, холода боится.
Капитан Исаев мог бы сказать, что собак этой породы никогда не использовали в качестве охотничьих или ездовых, что дрожит пес сейчас больше от нестерпимого голода и нервного перенапряжения, чем от мороза. Вместо этого он проговорил как только мог ласково, сочувствующе:
— Выходит, псина, бросил тебя твой хозяин? И стал ты теперь, так сказать, бесхозным имуществом?.. Что ж, в жизни всякое случается, на то она и жизнь… Сейчас мы освободим тебя от цепи, и тогда ты уж сам решай, в какую сторону тебе податься… А пока на, пожуй, — и протянул окаменевший ржаной сухарь.
Опасался, что сухарь будет схвачен с жадностью, был готов в любую секунду отдернуть руку, если грозные клыки окажутся в угрожающей близости, но пес взял сухарь осторожно, за самый краешек и не всей пастью, а лишь передними зубами. Словно страшился резким движением отпугнуть человека. Зато, завладев сухарем, сразу же захрумкал им, а еще через минуту или около того вновь уставился уже подобревшими глазами на человека, давшего сухарь, был готов не только принять от него еще одну подачку, но и угадывать его желания.
А капитан Исаев, продолжая добродушно бурчать: мол, не настало еще время погибать такой псине, не настало, — отцепил от ошейника цепь и небрежно бросил ее на обгоревшее железо. Сделал это и пошел к окопам, к землянке, где его ждали товарищи и благодатное тепло. За ним, недоумевающе передернув плечами, зашагал Юван. А пес некоторое время еще оставался в обгоревшем трамвайном вагоне, он все еще не мог решить, как следует поступить: остаться здесь, выполняя волю прежнего хозяина, или послушно затрусить за этим высоким человеком.
Немного поскулив больше для приличия, чем по необходимости, он нервной рысцой бросился в погоню. Догнав, виновато опустил голову, поджал хвост и побрел не вообще за ними, а решительно вклинился между капитаном Исаевым и Юваном. Почему брел понуро? Может быть, потому, что без разрешения прежнего хозяина ушел от того остова трамвайного вагона, который ему было приказано охранять.
Вслед за высоким человеком, давшим ему такой вкусный сухарь, он без особой охоты вошел в землянку, где в его ноздри враз ворвалось столько различных человеческих запахов, что он на некоторое время даже растерялся. Немного оробел, но, желая скрыть это, оскалился, глухо зарычал. Однако люди не испугались рыка: они будто вообще не услышали его, только взглянули на пришедших и снова одни улеглись, другие уткнулись глазами в книгу, склонили головы над шахматной доской или просто возобновили разговор.
А высокий человек прошел в дальний угол землянки, протерев, пристроил автомат в изголовье лежанки и лишь тогда сказал, положив руку на голову пса, который мгновенно напрягся каждой мышцей своего большого тела:
— Перминов, прошу тебя: с завтрашнего дня всегда в описке личного состава указывай на единицу больше, чем есть в роте.
— Понял, — без тени колебаний ответил тот.
— Значит, в Ленинграде люди от голода семьями вымирать будут, а мы для кобла обманом человеческие пайки добывать станем? — с ехидцей и тайной угрозой в голосе громко сказал солдат Акулишин — белобрысый парень с настолько плоской и широкой переносицей, что, не приглядевшись, ее можно было посчитать расплющенной сильным ударом.
Солдата Акулишина в роте не любили. За мелочную жадность и постоянное стремление быть в центре общего внимания; пусть даже откровенно плохо, но только бы о нем говорили. И капитан Исаев сразу же резко осадил его, как только он попытался подличать. Не просто запретил впредь поступать подобным образом, не обругал, а чуть ли не при всей роте спросил у того ополченца, на которого Акулишин донес: дескать, правда ли это? Конечно, когда Акулишин «информировал» капитана, рядом никого не было, вроде можно было бы и отпереться: мол, у меня и в мыслях ничего подобного не было, — однако он кожей своей, каждой клеточкой своего тела почувствовал, что товарищи безоговорочно поверили каждому слову капитана, что попытаться оправдаться сейчас — окончательно сгубить себя. И он смолчал, опустил глаза, чтобы не встречаться с презрительными взглядами.
С тех пор, виновником всего неприятного, случившегося с ним, почему-то считая лишь капитана Исаева, возненавидел его и только ждал случая, который дал бы возможность побольнее цапнуть, если не стереть в порошок. Сегодня, казалось, такая возможность представилась, потому громко и «вступился за правду». Ожидал, что командир роты, услышав это обвинение, откровенно вздрогнет или на какое-то время даже потеряет дар речи; в поддержке товарищей, зная их партийную принципиальность, и вовсе не сомневался. Тем неожиданнее было услышать то, что сказал солдат Карпов, задумчиво глядя на потемневшие от копоти бревна наката:
— Вношу поправочку: не кобла, как выражаются некоторые, а сторожевого пса мы подкармливать собираемся… И еще одно… У нас в деревне одно время тоже сволочь жила. Которая с лживыми доносами по начальству бегала, чтобы честных людей опорочить.