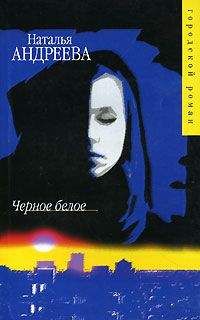Мирослава Томанова - Серебряная равнина
— Ладно, — сухо сказал Вокроуглицкий.
Ему стало неприятно при мысли о том, что он торопился сюда из Англии только для того, чтобы превратиться в затюканного помощника неудачливого Джони. Перед глазами еще стояли картины битвы за Киев, а воображение рисовало уже новые сражения. Что, если это будет повторяться и он, словно аутсайдер, где-то сбоку припёка, будет лишь нюхать запах пороха?
В небе гудели самолеты — негаснущая любовь Вокроуглицкого. Бой прекратился и в воздухе. Вокроуглицкий завистливо прислушивался к победному реву бомбардировщиков, бороздивших чистый простор после выигранной битвы.
7
Гремели победные залпы орудий. Казалось, небо раскалывается на куски, словно взорванная динамитом скала. Над освобожденным городом кружили самолеты, олицетворяя победу и надежную защиту. Свобода! Тот, кто не терял ее, не может себе представить состояние, когда в человеке воскресает надежда, что вот-вот он обретет ее снова.
После круглосуточных маршей и боев солдаты получили короткую передышку. Как ковшами, черпали они касками днепровскую воду, жадно пили ее, а она, переливаясь через края, омывала их измученные, но счастливые лица.
В районе сбора, в широкой лощине у Днепра, народу было полно. У растроганного Панушки текли слезы. Он заключал в объятия каждого, кто попадался ему навстречу, чех или русский, солдат но солдат. Худенькая украинка с потемневшим морщинистым лицом протянула Панушке бутылку с самогонкой:
— Берегли для наших, но раз пришли вы…
Мужчина, косая сажень в плечах, из-под пиджака торчит воротник вышитой рубашки, закивал:
— Вы или наши — все одно.
Бутылка с самогонкой шла по кругу, развязывая языки.
— Видите тот домик внизу, у реки? Сгоревший. Да, да! Это мой. Но стены целы. Отстроимся. — Здоровяк рассмеялся: — Я плотник, работаю на верфи. Василий Михайлович Никитенко, партизан. А это моя жена Матрена. — Он показал на худенькую женщину. — Понимаете?
Супруги в свою очередь вопросительно посмотрели на Яну.
— Моя дочка, Яна. Телефонистка. Хорошо держалась девочка, — похвастался Панушка.
Василий и Матрена улыбнулись.
— Нам кров вы вернули, а самим-то, беднягам, до дому далеко, да и немец там еще, — вздохнула женщина.
— Ну, это не надолго, — сказал Панушка и уверенно повторил то, о чем все говорили сегодня с такой надеждой: — На рождество будем дома.
Он начал рассказывать о Броумове.
Русский язык Панушки был не настолько совершенен, чтобы можно было поведать о том, что такого неба, как над его Броумовом, нет нигде, что в нем, как в зеркале, отражается все: бегущие вверх косогоры, поросшие вереском, густой лес, снег и голые броумовские скалы.
— Уже одно наше небо… — посмотрел он вверх.
— Ну а город твой большой?
Большой!
— Как наш Киев?
Взятие Киева приблизило Панушке его Броумов, его потерянный рай. Но к радости примешивалась и горечь: жена больна, в доме немцы. Что ждет его? Быть может, голые стены, как у Василия Михайловича? Но разве может он начать все сначала? В его-то возрасте, да с ревматизмом?
Броумов!.. Всю жизнь он прожил в нем. Как ни жгуча была боль, прекраснее воспоминания Панушка не знал. Самогонка раззадоривала:
— Как Киев? Да, конечно. Еще больше! Даже по-чешски не описать мне его красоту. — Панушка вытирал слезы, растроганный собственными воспоминаниями.
Василий восторженно кивал:
— И река там, как Днипро?
У Панушки перед глазами возникла речка, вся в тени склонившегося ольшаника, он взглянул на километровую ширь Днепра и не моргнув глазом продолжал:
— Еще бы! Только наш Днепр называется Стинава.
— Папа! — укоризненно остановила его Яна.
Киев дымился. Запах пожарищ расползался в утренней мгле. Бригада похоронила тридцать павших, зашивала и бинтовала тридцать раненых. Тот, кто остался в живых — руки-ноги целы, — стряхивал с себя усталость. Победа опьяняла, будоражила. Всюду радостные крики, пение.
Станек пробирался напрямик лощиной, кишащей людьми. Искал Яну. Его останавливали, протягивали кружки с самогонкой, делились своими чувствами и, не находя достаточных слов, снова и снова выкрикивали тосты. Станек чокался с ними, но потом выскальзывал из чьих-то объятий и спешил дальше.
Наконец он увидел Яну. Издали приветственно замахал ей рукой.
Она соскочила с груды металлических обломков и пошла ему навстречу.
Офицерские звездочки на его погонах потускнели, шинель в пепле и пятнах крови, лицо заросшее, осунувшееся. Сегодня командир мало чем отличался от своих подчиненных. И оттого был еще более близок ей.
— Ну куда это годится: такой замечательный день, все радуются, танцуют, а ты сидишь, как прикованная к этим ржавым обломкам.
— К папе, — рассмеялась она. — Но я уже свободна!
— Яна! Яничка! Живые! Невредимые! Знаешь, что я сейчас чувствую? Нет, не знаешь!
Он сказал это с такой же страстностью, как тогда, на линии «Андромеды». И снова, как тогда, на какое-то мгновение ее охватил страх.
— Я за вас ужасно боялась. А потом была так рада, когда вы отозвались…
— Ну, все это уже позади! И страх, и радость.
— И радость?
— А разве я не могу испытывать нечто большее, чем радость?
Она поняла и улыбнулась ему. Он увидел вдруг, что одна пуговица на ее шинели отличается от других.
— Что это у тебя за пуговица? Не как остальные…
Она показала на его шинель.
— Вот моя!
— А моя у тебя?
— Я их поменяла. Я хотела, чтобы у вас… у тебя… всегда было что-нибудь мое, а у меня — твое. Талисман.
Ах, эти превратности войны. Ему казалось, что лучший талисман для Яны — он сам. Нарочно оставил ее на основном пункте и именно там ее едва не убили. Но, слава богу, все позади!
— Да, на войне любят приметы. Выходит, талисман подействовал, — рассмеялся он.
Они брели по лощине. Люди разъединяли их, снова сталкивали вместе. И всякий раз, когда это происходило, они улыбались друг другу.
— Я теперь вспомнил, — сказал Станек. — Я как-то просил тебя пришить мне пуговицу. Но, Яна, ведь это было так давно! Ты тогда еще была в медпункте. — Он был растроган. Вот уже с каких пор она его любит? Он думал о Яниной любви. О безмерном счастье, с трудом умещавшемся в человеческом сердце.
А люди все прибывали и прибывали. Район сбора гудел тысячами радостных голосов.
Гармошка. Пляски. Они протолкались в ряды зрителей. Танцоры в кругу все время меняются. И танцы разные — то казачок, то русский, то лезгинка. Каскад прыжков и пируэтов. На гимнастерках у солдат прыгают медали.
Станек украдкой поглядывал на Яну. Она этого не замечала, беззаботно смеялась и аплодировала вместе со всеми гармонисту и плясунам. Станек вспомнил их первую встречу в Бузулуке. Яна и Панушка были для него олицетворением отчего дома, того, который он оставил и к которому так стремится теперь. Он понимал, что это представление обманчиво, что такое чувство испытывает не только он.
Станек потянул Яну дальше. Три пехотинца-свободовца, пробираясь сквозь толпу, опять отделили Станека от Яны. Солдаты сразу же узнали командира роты связистов. Руки к пилоткам — и вот уже пехотинцы исчезли в толчее.
— На рождество будем дома! — крикнул кто-то из них хриплым голосом.
Станек сжимал маленькую Янину руку в своей. На рождество дома! Эх, скорее бы мир! Вот сейчас бы! И он представил себе: Яна в нарядном платье, он идет с ней но лугу вдоль Быстршички у Оломоуца, трава высоченная-высоченная. Но мечта забегала слишком далеко вперед. Зачем желать немедленно мира? Яна — его мир. Яну мир посылает ему навстречу, сюда. Он вспомнил, как уносил от нее внезапно родившуюся хрупкую мелодию, и подумал: «Я должен найти здесь для нас двоих кусочек тишины и подальше от чужих глаз. Нет, не найдешь сейчас такого уединенного места. Тогда уж лучше слиться с ликующей толпой!» Он потянул Яну еще быстрее за собой.
Они приближались к бригадному духовому оркестру, игравшему мелодии чешских песен.
И вдруг — стрельба. Она показалась еще более грозной, чем во время боя. Все как один повернулись в ту сторону, откуда раздался сухой треск выстрелов. Неужели снова этот ад?
Кто-то крикнул:
— Не пугайтесь, люди добрые! Это автоматчики очищают парк возле лавры от укрывшихся там немцев. Через минуту все будет кончено.
После неожиданного испуга радость захлестнула всех сильнее прежнего. Оркестр грянул еще веселее. Танцующие пары то и дело задевали Станека. Он обхватил Яну за талию и тоже бросился в этот вихрь — кружиться, кружиться, — и вот уже парусом развевается ее шинель.
Яна была словно во сне — ее первый бал! Не в шелковом платье, не в лакированных туфельках. Без танцевальной программки, перевязанной серебряной ниткой. В армейской шинели. Под открытым небом. В день победы! И с ним! Быть более счастливой, чем сейчас, наверное, уже невозможно. Никогда. И нигде.