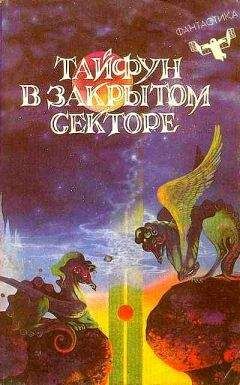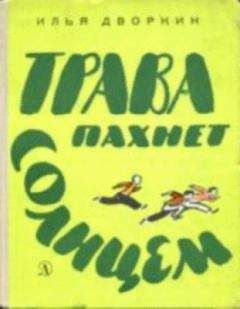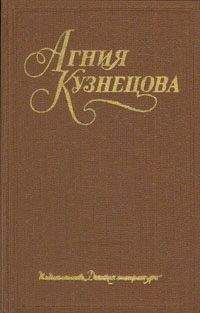Анатолий Маркуша - Нет
Хабаров читал медленно, наслаждаясь. Он любил Лонгфелло и перечитывал его постоянно; иногда с удовольствием останавливался и внимательно разглядывал рисунки художника Ремингтона — прекрасные перовые миниатюры.
И все-таки Виктор Михайлович заснул. Волшебник Лонгфелло убаюкал Хабарова ласково и незаметно. Спал он крепко, снов не видел, спал спокойно, как спят здоровые дети и взрослые, если у них, у взрослых, чистая совесть и уверенность — все сделано так, как должно.
Виктор Михайлович проснулся оттого, что по комнате кто-то ходил. Еле слышно, осторожно. Он открыл глаза и увидел мать.
— Мама, ты чего приехала?
— Я тебя разбудила, Витенька?
— Очень хорошо, я давно уже сплю, пора вставать. Ты чего рано вернулась?
— Забеспокоилась что-то и приехала. У тебя сегодня ночные?
— Нет, это я после ночных добирал малость.
— Устал?
— Немного есть.
— Все было хорошо?
— Все было нормально.
— Честно, Витя?
— Честно.
— Есть хочешь?
— Есть я всегда хочу, ты что, не знаешь?
— Ну и хорошо, сейчас я тебя покормлю. — И она ушла в кухню. А он подобрал с узорчатого ковра, давным-давно привезенного из Средней Азии, томик «Гайаваты» и с удовольствием почитал еще немного:
Вслед за первою стрелою
Полетела и вторая,
Понеслась быстрее первой,
Поразила глубже первой,
И колени чародея,
Как тростник, затрепетали,
Как тростник, под ним согнулись…
Он пообедал вместе с матерью. И Виктор Михайлович решил свой случайный выходной день превратить до конца в праздник.
— Мам, а что, если я в цирк съезжу? Не возражаешь?
Мать знала, как Витя любит цирк — эта любовь жила в нем с детства, — и нисколько не удивилась.
— Конечно, поезжай, Витя; раз хочется и раз есть время, почему ж не поехать?
— А ты не хочешь?
— Я уже стара для цирка. Вот когда в балет соберешься, тогда другое дело…
Он засмеялся. В балете Виктор Михайлович был всего один раз в жизни. С Кирой. И осрамился — заснул во время первого же акта.
Из цирка Виктор Михайлович вернулся не поздно, мать еще не ложилась.
— Ну, я тебе скажу! Я тебе скажу — таких прыгунов в жизни не видел! Представляешь, заднее сальто на ходулях без страховки крутят! И темпик у них — с ума можно сойти! Как все пятеро начинают мелькать, голова кругом идет…
— У кого, у тебя голова кружится?
— Почему у меня? У широких масс трудящихся.
Хабаров уселся за стол и принялся во всех подробностях рассказывать про акробатов, про какого-то исключительного жонглера — работает с восьмью мячами!
Мать слушала сына, смотрела на него во все глаза и думала: «Пусть бы он каждый день ездил в цирк, только бы возвращался домой с молодыми глазами, без удручающей синевы под нижними веками, без горьких складок вокруг рта, входил бы легким шагом, а не волочил пудовые ноги, как после трудных и не очень удачных полетов».
Почему-то она вспомнила, как однажды, теперь уже очень давно, Виктор, служивший в строевой истребительной части, поручил ей отвезти генералу Бородину какие-то необходимые для перевода на испытательную работу документы.
Генерал Бородин оказался тучным мужчиной с грубым лицом, большими, словно у кузнеца, руками, с совершенно необъятной грудной клеткой, распиравшей мундир. Бородин принял мать незамедлительно. Раскрыв плотный серый пакет с документами, он мельком взглянул на бумаги и спросил:
— А вы, собственно, кто ему будете?
— Я? Мама его, — сказала Анна Мироновна и смутилась.
— Мама? — переспросил генерал. — У такого большого сына и такая маленькая мама?
Мать не нашлась, что ответить, и только улыбнулась.
— А вы знаете, мама, на какую работу оформляется ваш сын? — сказал генерал и погладил бумаги, лежавшие на столе.
— Конечно, знаю.
— И не боитесь?
— Вы считаете, товарищ генерал (это обращение прозвучало, наверное, довольно странно, но ведь она была когда-то военным врачом, майором медицинской службы), что Витя недостаточно хороший летчик для такого дела?
— Почему недостаточно хороший? Ваш сын — отличный летчик. Я не о нем беспокоюсь, о вас…
— Витя всегда хотел быть испытателем. А я уверена: человек должен быть тем, кем хочет…
Мать собиралась сказать еще что-то, но не успела: генерал вылез из-за стола, быстро подошел к Анне Мироновне и потянулся к ее руке. Мать совсем растерялась, когда Бородин, неуклюже согнувшись, неловко поцеловал ей руку.
— Ну, мама, ну, мама, я вам скажу, мама: вы — первый случай в моей практике! Счастливый человек ваш сын. Такую маму на руках носить, надо…
Воспоминание это мелькнуло и исчезло. Мать снова вернулась к действительности.
Виктор Михайлович сидел верхом на стуле, обхватив руками спинку, и продолжал рассказывать про цирк.
— Вить, я совсем позабыла: Вадим Орлов тебе звонил, просил, когда придешь, чтобы дал знать.
И, сразу оборвав свой рассказ, Хабаров спросил:
— Что у него там стряслось?
— Не знаю. Просто просил позвонить. Хабаров набрал номер телефона штурмана и, услышав его медленный, будто спросонья, голос, спросил:
— Спишь? Это я.
— Не сплю. Как жизнь, циркач?
— Нормальная жизнь. Ты чего звонил?
— Может, зайдешь?
— Почему такая срочность? Что-нибудь не так?
— Все так, никакой срочности нет. Просто я по тебе соскучился. Мы же не виделись со вчерашнего дня. Заходи. Можно в тапочках.
— Сраженный его миндально-мармеладной нежностью, он расправил голубые консоли и немедленно вылетел на свидание. В полетном листе было написано: любовь до гроба. Как понял? Прием! — сказал Хабаров и повесил трубку.
— Ну что? — спросила мать.
— Говорит, соскучился, просит зайти.
— Вы же вчера ночью вместе летали, когда ж он успел соскучиться?
— Вчера ночью мы как раз врозь летали, — усмехнулся Виктор Михайлович, — но дело не в этом. Я схожу.
Штурман был дома один. Жена еще не вернулась из вечерней школы, где преподавала немецкий.
На круглом обеденном столе Хабаров увидел старую, потрепанную книжку в синем самодельном переплете. Заметил корешок, аккуратно выклеенный из куска широкой изоляционной ленты. Виктор Михайлович взял книгу в руки. Оказалось: Джимми Коллинз, «Летчик-испытатель», довоенное издание с послесловием Чкалова и Байдукова.
— Наслаждаешься? — спросил Хабаров.
— А что? Это вещь? Это настоящая вещь, господа присяжные заседатели, если, конечно, смотреть в корень…
Виктор Михайлович свистнул.
— Ты чего? — спросил Орлов.
— Ничего. Просто я давно уже заметил, если ты начинаешь разговаривать на одесский манер — дела, как правило, оказываются дерьмовыми. Так, без дураков, что случилось?
— Ладно, давай без дураков. Спина у меня болит. Когда мы катапультировались, что-то там, видно, не так хрустнуло, Витя.
— С врачом говорил?
— Нет. И не хочу. Ему скажи: в госпиталь упрячет на обследование, а это, как пить дать, месяц. У меня есть другой вариант, но сначала скажи: что ты собираешься дальше делать?
— В каком плане?
— Ну, аварийная комиссия заключение сочинит. Надо полагать, по рогам Вадиму Сергеевичу дадут, но, я думаю, не сильно. Машина нужна. Будут готовить дублер. Ты возьмешь дублер?
Хабаров ответил не сразу.
— Если Вадим Сергеевич сделает то, на чем я настаивал с самого начала, вероятно, возьму. Только сам себя предлагать не собираюсь. Им нужно — пусть просят.
— Ясно. А как ты смотришь на такой вариант: что, если нам всем экипажем попроситься сейчас в отпуск? Я бы на Мацесту махнул, показал свой хребет местным мастерам, ванны попринимал бы. У инженера настроение на троечку. Очень уж он за Углова переживает, да и жена из него душу тянет: брось да брось, сколько можно летать, не до ста же лет. Так что ему тоже полезно отдохнуть и побыть вне сферы ее влияния. Словом, как ты на это дело смотришь?
— Отпуск — хорошо. Только надо как-то поаккуратнее с начлетом на эту тему поговорить, чтобы ему не стукнуло, будто я вас в «дипломатический отпуск» увести хочу. Понимаешь?
— Да что ты, Витя, Кравцову такая муть никогда в голову не придет.
— Сам он может и не подумать, а подсказчики найдутся! Слишком он, к сожалению, в последнее время стал к окружению своему прислушиваться.
— Выпить хочешь? Ребята из Еревана коньячок привезли.
— Спасибо, не хочу.
— Я тоже не хочу. — Держась обеими руками за спину и чуть-чуть раскачиваясь, Орлов прошелся по комнате. — Так что, решили?
— В принципе — да. Решили. А подробности уточним завтра. Согласен?
— Согласен.
На этом они расстались.
Глава одиннадцатая