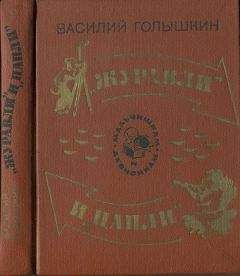Василий Голышкин - Лёшка
— А у нас… у нас мины, которых вашим ни за что не разгрызть…
— Где им! — кривится средний, Миша.
— А может, и у них есть, — примиряет стороны младший, Олег. — Секретные-пресекретные…
Немец усмехается. Он уже разгадал их игру: ищут чертежи мины, о которых самому ему стало известно лишь сегодня. Да и вообще, вся троица у него как под микроскопом. Час назад сообщили: погиб Тихон, подорвался на мине. Вряд ли сам подорвался. Скорее всего, подорвали, мстя за измену. Но сам не сам — не докажешь. А ему эти доказательства и не нужны. Он точно знает — не сам! И не без его, Андрея Ленца, участия. И не без участия троицы, которая — вот она — заговаривает ему зубы, стараясь вызвать на откровенность. И невдомек им, глупым, что он сам рад во искупление своей неискупимой вины пооткровенничать с ними.
— Секретные-пресекретные? — подхватывает он слово, выпущенное младшим, Олегом, и кивает: — Есть! — У троицы ушки на макушке, они все трое — одно сплошное внимание. — Такие, что без чертежей не разминируешь. А до чертежей вашим ни за что не добраться. Они, как сердце у Кащея, в штабном яйце-сейфе. Их к нам генерал-майор привез. Ричард Вирту по имени. Из самого Берлина. Завтра дальше повезет. В легковой машине. На Старую Руссу. До свидания. Приятного аппетита! — И, сунув каждому по печеньицу, уходит, перекинув тень через улицу и взбивая пыль. Троица, постояв, тоже расходится. И хотя всем им надо в одно место — к церковным развалинам, — расходятся в трех разных направлениях, веером — на запад, юг и восток. Но это для конспирации. Пройдя немного, возьмут условный курс и сойдутся возле развалин. Интересно, кто и что их там ждет?
Прошла, ковыляя, старушка. Она ли? Проплелся, сгорбившись, дед. Он или не он? Проскакала на одной ножке, пыля подолом, девчонка в белом платочке, сидевшем на голове плотно, как скорлупа на яйце. Ну это ясно, что не она.
Вдруг девчонка подскакала к ним и спросила:
— Вы кто?
— Отвали! — огрызнулся младший, Олег.
— А я — кукушка, — не отступая, сказала девчонка и взмахнула руками-крыльями.
— Ах ты… — начал средний Миша и, не успев подобрать ругательства, осекся: «Кукушка» — это же пароль! А эхо пароля — отзыв. И Миша тут же откликнулся: — «Волга»!
— Что для командира? — шепотом спросила девочка.
Старший, Гриша, слово в слово передал то, что слышал от немца: и про чертежи, и про генерала, и про дорогу, по которой тот поедет завтра поутру… А передав, спросил:
— Что с командиром? Сам обещал быть.
— Командир здесь! — мальчишеским баском хохотнула девчонка и, наградив Гришу дружеским тумаком, умчалась, подпрыгивая на бегу.
Троица растерянно переглянулась.
— Кто это? — спросил самый недогадливый, младший.
— Командир… Голиков… — ответил самый догадливый, средний.
Гриша благоразумно промолчал, хотя тоже узнал командира: не его тайна. И если командир не хочет открывать себя, зачем Грише делать это за него?
Ричард Вирту был генерал-майором инженерных войск. И всю жизнь ходил в «творцах огня», выдумывал и делал мины. «Творец огня генерал-майор Ричард Вирту!» Это звучало гордо, и генерал-майор, не скрывая, гордился своим первым, неофициальным титулом. Но — и это он тщательно скрывал от других — старался как можно дальше держаться от огня, который вызывали его мины. Трусость? Ну уж нет, в трусости генерал-майор, «военная косточка», даже самому себе не признался бы. Благоразумие! А еще разделение труда. Он производит мины, другие их устанавливают, третьи на них подрываются. Все по справедливости. От каждого то, на что он способен. Генерал с ног до головы и глубже, до дна души, был военным. И как рыба не может жить без воды, так и генерал Ричард Вирту не мыслил свое существование без дисциплины. Здание держится на фундаменте, армия — на порядке, при котором старшие отдают приказания, младшие, не задумываясь, выполняют. Когда явился Гитлер, генерал Вирту сразу пошел за ним. Потому что Гитлер обещал построить общество по образу и подобию армии — его, генерала Вирту, идеалу: старшие приказывают, младшие выполняют.
О, эти младшие, точнее, самые младшие, дети! Они не признавали никакой дисциплины, и генерал Вирту просто из себя выходил, когда ему случалось узнавать о школьных проделках своих младших сограждан.
В середине августа 1942 года генерала Вирту вызвали к начальству. Вызов мог означать одно из двух — новое задание или награду за старое. По донесениям с фронта, его мины-ловушки успешно опустошали ряды русских. Так что же, задание или награда? Оказалось, ни то ни другое, а третье — поездка с чертежами собственной мины на фронт. Сто вопросов вертелось на языке у генерала: почему он, а не кто-нибудь из его подчиненных? Зачем с чертежами, если он, отправляя мины, снабжал ими каждую партию? Но он не задал ни одного: старшие приказывают, младшие выполняют. Сел в самолет и в тот же день приземлился в Пскове.
В лесу всегда почему-то тревожно. Наверное, от слышанных сказок. Мох ли то или колдунья борода стелется? Березки над омутом или русалки топчутся? Черемуха нянчит гроздья ягод. Костяника беззвучно бренчит алыми монистами плодов. Гриб сыроежка лакомо и застенчиво, как девушка, выглядывает из-под платочка-листика. Теплынь. Август, а будто и не остывает лето. Свод небес чист, высок, льет и льет ласковые лучи. Тишина. Пернатые отпели, а кукушка та и вовсе подалась вдаль от родных мест. И это хорошо, что в лесу тишина. Лучше слышно. А ему, Лене Голикову, партизанскому разведчику, слышимость сейчас важней всего. Лес не поле. В поле, насколько глаз хватает, можно видеть. А в лесу — не дальше своего носа. Здесь что ни сучок, то препятствие глазу. Поэтому в лесу слух надежнее зрения.
Леня Голиков лежит в овражке близ большака, бегущего просекой, и прислушивается. Он простоволос, бос, в рубашке навыпуск, зато под рубашкой — на ремне и под ремнем, у него целый арсенал: две гранаты и пистолет.
Пробегает, тарахтя, телега. На передке немец кучер. Сидит, втянув голову в плечи, и глазом в сторону не поведет. Для него сделать это, все равно что заглянуть в глаза смерти. Едет и молится, наверное, немецкому богу, чтобы поскорее вынес на полевую дорогу, подальше от страшных хозяев здешних мест — партизан.
Стрекоча, как кузнечик, проносится мотоцикл. В люльке, вполоборота к лесу, немецкий автоматчик. У этого вид бесстрашный, смотрит гордо, как петух, уповая на автомат.
Вдруг нежно, как пчела, зажужжала вдали легковая машина. Неужели она, та, которую на всех дорогах, ведущих из Пскова на Старую Руссу, подстерегают партизанские разведчики. Глаз, устремленный на дорогу, подтверждает догадку: идет немецкий «оппель». Пора, Голиков, выходи! Медлишь? Может, боишься? Как-то, по другому поводу, уже было спрошено. И с усмешкой отвечено: «Это мы не проходили». А для тугодумов добавлено: у них в Лукине, где он родился и жил, уроков боязни не было. Преподавали одну храбрость. Чего же медлишь? А, хочешь, чтобы «оппель» подбежал ближе. Вот он, почти рядом!..
Леня Голиков выскакивает на дорогу и, сорвав чеку, бросает гранату. Два тела — маленькая граната и огромный «оппель» — какое-то время мчатся навстречу друг другу и, соприкоснувшись, растворяются в гремучем залпе пламени. Взрыв поднимает «оппель» в воздух и, перекувыркнув, шмякает оземь. Леня Голиков, переждав взрыв в кювете, выскакивает на дорогу и со всех ног мчится к «оппелю». Хочет оказать помощь пассажирам? Пассажиры — враги, а на войне с врагами один расчет — смерть, если враги не сдаются. А эти, наоборот, не сдаваться ехали, а убивать. Нет, не пассажиры интересуют Леню Голикова, а пассажирский багаж, точнее, то, что в багаже. Вот он, багаж, — портфель в горящем «оппеле»! Леня, загораживаясь от огня и дыма ладошкой, выуживает портфель из машины, и в ужасе отступает перед вторым действующим лицом, которое без его помощи вываливается оттуда же. Генерал! Целый и невредимый, хотя и опаленный, как гусь, живьем попавший на вертел, генерал! Ну, с фашистами, хотя и в генеральском чине, у Лени разговор короток: «Хенде хох!» — и пистолет в живот.
Леня так и сделал. И очень удивился, когда генерал, увидев перед собой мальчишку, вдруг рассвирепел, затопал ногами, и горой — а туша была немалая — понесся на Леню Голикова. Вот он ему сейчас покажет — задушит, а задушив, растопчет, чтобы и следа от этого русского пацана-поганца не осталось…
С этим на уме он и умер, не успев осуществить задуманного. Пуля Лени Голикова оборвала генеральскую жизнь, не дав тому осознать, что непослушные мальчишки становятся вполне послушными мужчинами, когда Родина зовет их на помощь.
Фронт стоял против фронта. Шел второй год войны. Наши, отстаивая Ленинград, как могли отбивались от врага, изматывая его беспрерывными контратаками, а гитлеровцы, щадя свои тающие резервы и уже не надеясь взять город на Неве живой силой, били его железом — бомбами, снарядами, минами. И лишь на одном участке гигантской передовой, окружавшей город Ленина, было затишье. И не потому, что ни мы, ни немцы не решались атаковать друг друга. Такие намерения были. Больше того, взаимные атаки разыгрывались даже на штабных картах той и другой стороны. Но когда доходило до дела, саперы — наши и немецкие — говорили «нет», и атаки умирали, не родившись. А все потому, что между нашими и немецкими позициями лежало минное поле, которое не поддавалось разминированию. Четырнадцатого августа второго года войны в штаб советской части, державшей оборону на этом участке фронта, пробрался партизанский гонец. Его принял командир части и, переговорив, приказал вызвать саперного начальника. Начальник пришел, и командир, как награду, торжественно вручил ему чертеж новой мины, изъятый псковскими партизанами.