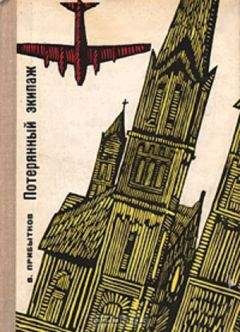Михаил Лыньков - Незабываемые дни
— Не спится, товарищ председатель.
— Это ты верно говоришь. Не до сна! Заснешь и весь свет белый проспишь. А то и вовсе не проснешься. И опять-таки скажу, ответ ты даешь правильный…
Беседа продолжалась, но все ощущали какую-то натянутость, в словах слышалась недоговоренность, загадочность. И у каждого, кроме Дубкова, мелькала одна и та же мысль: «Вот же некстати встреча… Ни взад, ни вперед».
Они стояли кучкой, заслоняя от сапера какие-то предметы, которые тащили до того. Но Дубков еще раньше разглядел пару пулеметов и ни с того ни с сего засмеялся:
— А я-то думал: куда девались мои пулеметы? Быть не может, чтобы они ваших рук минули?
Швед почесал затылок, потянул носом и тоже рассмеялся:
— Глянь-ка, нашелся хозяин на пулеметы!
И уже весело сказал своим:
— Пошли! Ничего не поделаешь… Обойдется как-нибудь.
Шли молча. Не дойдя километра два до села, Швед мягко сказал саперу:
— Ты б уж отдал нам и свою пушку. Думаю, и другие свои трофеи от нас таить не станешь. А теперь, братец, иди с богом домой… Нам еще нужно кое-что сделать, на минутку задержимся. Да ты не обижайся, должен сам понимать, раз ты солдат. Да о том, что видел в лесу, ни слова, ни звука… Ну, бывай!
— Апанас Рыгорович! — вздохнул тут сапер. — Что ты со мной в жмурки играешь. Вижу я все, понимаю!
— Тем лучше, если понимаешь. А обижаться не надо. Будет нужда в тебе, сразу позовем… Да руку подлечи…
Дед Сымон, пропустив его в хату, пошутил:
— Должно быть, сапер, ты в лунатики подался, нет на тебя и ночью угомона!
— Нету, дед, нету! — возбужденно и весело ответил Дубков.
13
Александр Демьянович хотя и поправлялся, но выздоровление подвигалось чрезвычайно медленно, сказалась, повидимому, большая потеря крови. За ним заботливо ухаживала Надя, делала перевязки, кипятила молоко. Рана на ноге комиссара понемногу заживала. Он даже делал попытки становиться на нее, по при каждом прикосновении к половице жгучая боль пронизывала все тело, и комиссар, тяжело дыша, беспомощно откидывался на подушки. Хуже было с рукой. Рана то затягивалась немного, спадала опухоль, потом снова поднималась боль. Рука горела, как в огне, набухала, не пролезала в рукав сорочки. Кисть так распухла, что пальцы нельзя было согнуть, и они торчали набрякшие, растопыренные.
— Больно, дядя? — спрашивал Василька. — Вы, дядя, йодом помажьте болячку, тогда она скорее заживет. Мне мама всегда йодом мажет, если я палец ножом порежу. А мама уже который день не приходит. Вы не знаете, дядя, скоро она придет?
Казалось, от слов мальчика утихала боль, и Александр Демьянович, глядя в синие глаза малыша, силился изобразить на своем лице подобие улыбки и коротко отвечал:
— Думаю, что она скоро придет. И папа твой вернется.
— Нет, папка не придет. Он фашистов бьет… Он пока всех фашистов не перебьет, домой не вернется. Но нам в Минск надо, там у нас квартира, там велосипед у меня. А на дворе, дядя, у меня аэродром. Все мои самолеты остались там. Может, теперь фашисты их захватили? Как вы думаете, дядя? Захватили или нет?
— Видно, захватили, Василька. Они все хватают.
— А как вы думаете, дядя…
— Василька, отвяжись от дяди, дай ему отдохнуть, — набрасывалась на Васильку Надя. — Пошел бы лучше на двор погулять.
— Боюсь, тетя. Самолетов боюсь, они еще летают.
— Ну и пускай себе летают. Они же бомбы сюда бросать не будут.
— Все равно боюсь.
Со дня на день, собиралась Надя отвести мальчика к его деду и все не могла решиться: кому приятно получить весть о страшном несчастье с их родными, близкими? И отец советовал: пусть все немного успокоится, прояснится. Он даже допускал мысль, что дочка Силивона Сергеевича не погибла, не стоит понапрасну тревожить стариков. Опять же у Андрея Силивоновича Лагуцьки и без того теперь пропасть всяческих забот, чтобы добавить ему еще лишнее горе. Вот почему Василька до поры до времени жил в старой лесной сторожке. Гулял с Надей в лесу, возле ручья. Пас вместе с Пилипчиком корову, собирал землянику. Пилипчик порой расспрашивал его, как они нашли Александра Демьяновича и кто он такой.
— Не знаю… — отвечал Василька. — Мы его с тетей Надей прятали в лесу, ты же его привез оттуда. Его фашисты убить могут, ведь он начальником над красноармейцами был… Поэтому о нем говорить не надо. Он вот залечит раны и будет фашистов бить.
— А твой папа тоже начальник?
— Мой папа командир, но говорить о нем я не буду, тут, может, фашисты какие-нибудь ходят, они еще подслушать могут.
— Фу! Очень мы испугались этих фашистов. Мы с дяденькой Остапом немецких диверсантов били, а он говорит…
Если уж на то пошло, так он может показать Васильке такое, что тому и не снилось. Нашел чем пугать его!
— Пойдем-ка! — позвал он мальчика, явно намереваясь показать ему в лесу свой тайник, где хранились разные любопытные вещи: целый ящик патронов, гранаты, ящик каких-то необыкновенных бумажных патронов слишком большого размера и самый настоящий пистолет. Правда, пистолет этот не такой, как у людей, очень уж широкое у него дуло. Подумал про свое богатство Пилипчик и сразу же спохватился. Вспомнил строжайший приказ дядьки Остапа: все, что Пилипчик найдет в лесу или в поле, сейчас же ему показывать и никому больше об этом ни слова, ни звука.
— Не посмотрю, что ты мой племянник, оба уха пушу на мочалу!
И Пилипчик показал Васильке всякие другие секреты: барсуковую нору под сосновым пнем, птичье гнездо в кустах. В гнезде были желторотые птенцы, их хотел приласкать Василька. Но Пилипчик сурово набросился на него:
— Не трогай, не трогай… птичка может покинуть детей, если учует от них человечий запах. Они ж тогда могут с голоду умереть. Идем лучше в другое место, я тебе меду дам.
И в самом деле, через несколько минут хитрый Пилипчик угощал Васильку медом, который они пили через соломинки из шмелиных сот, вырытых Пилипчиком из мохнатой кочки. Мед был необыкновенно сладкий. Он казался еще слаще от того, что они сами его достали, сами нашли. Если не Василька, то Пилипчик.
И все было бы так хорошо, если бы не этот проклятый шмель. Он загудел, забумкал прямо перед носом Васильки. Тот отчаянно замахал руками.
— Не шевелись, он тебя не тронет, — советовал Пилипчик. Но где там не тронет! И минуты не прошло, как Василька тер свой нос, стараясь изо всех сил не разреветься. Он ведь мужчина! Пилипчик прикладывал ему к носу какой-то лопушистый лист, потом обмывал холодной водой у ручья. Но боль не унималась, краснел и распухал нос, и когда Василька его пощупал, ему даже страшно стало: нос стал большим и твердым, как картошка. Тут уж он не выдержал, и крупные слезы посыпались из его глазенок. А этот нахальный Пилипчик, уперев руки в бока, еще хохочет, заливается:
— Вот так нос! То был у тебя курносый, маленький, а теперь как у твоего деда Силивона.
Василька побежал к тете Наде, чтобы помазала йодом. — Кто ж это тебя так раздолбал? — спросила она.
— Шмель меня ранил… Такой большой-большой.
Тетя Надя тоже рассмеялась, улыбнулся и дядя Александр, услышав про шмелиную рану. Василька немного смутился.
— Это и так пройдет. Йода не надо, вот я тебе немного помою лицо, рана твоя и заживет.
Василька чувствовал себя немного обиженным таким пренебрежительным отношением к его ране. Но дядя Александр привлек его к себе, погладил по голове, приласкал:
— Хочешь, сказку тебе расскажу?
— Сказку можно, сказки я люблю.
Дядя Александр рассказал ему про Красную Шапочку, рассказал и другие сказки. Василька сначала восторгался, часто перебивал рассказ восклицаниями, но потом стал позевывать, клевать носом. И, наконец, совсем задремал. Надя осторожно раздела его, напоила уже полусонного молоком, понесла на кроватку.
Вечерело. В окно видны были скупо освещенные заходящим солнцем верхушки сосен и елей. За стеной в ульях стихало пчелиное гудение. С тихим посвистом пролетели над хатой дикие утки. Где-то в лесу отозвался ворон, — видно, только добрался до гнезда после дневных странствий. Первый вечерний жук ударился об оконное стекло, умолк на некоторое время и снова зажужжал около молодой березки под окном. Над болотцем грустно прокричал кулик. Вечерний сумрак незаметно пробирался в угол хаты, постепенно затемняя стены, потолок, широкую печь у порога. Отозвался за печью сверчок, вестник близкой ночи.
В эти вечерние часы очень скверно чувствовал себя бригадный комиссар. Находила на него такая тоска, что хоть беги из этой глухой лесной сторожки, где целыми неделями не увидишь нового человека, не услышишь нового человеческого голоса Не раны угнетали его, а неизвестность, незнание того, что творится сейчас на свете, за линией фронта. Если днем еще туда-сюда, то в эти сумрачные часы чувствуешь себя, словно в могиле. И такая печаль оседает на сердце, что места себе не находишь. Совсем бы другое дело, если б не эта рука и нога! Вот Остап ходит где-то весь день, у него уйма забот, все выполняет разные поручения Мирона Ивановича. И сам Мирон, молчаливый, с виду неприветливый человек, у которого даже подстриженный ежик головы всегда сердито топорщится, словно угрожает, — и тот целый день на ногах, куда-то ходит, с кем-то встречается, совещается, дает людям поручения. Одним словом, живут люди полным ходом. Александр Демьянович даже в курсе некоторых их дел. Хорошие дела! Если бы все за такие брались, круто пришлось бы фашистам. Но самому Александру Демьяновичу тяжело, ох как тяжело лежать в такие дни прикованным к постели.