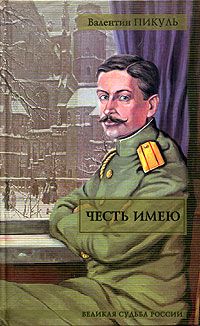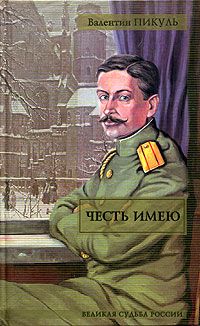Валентин Пикуль - Честь имею
Мог ли я тогда знать, что из этих внешне безобидных красителей фирма «ИГ Фарбениндустри» выработает формулу отравляющих веществ, а немецкий химик Фриц Габер, будущий лауреат Нобелевской премии, обрушит на голову врагов кайзеровской империи страшную лавину смертоносного иприта!
Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкою поездов, идущих через Граево на Кенигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с «пантофельной почтой». Чуть отвернешься, и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с черточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту кабалистику невозможно, а местные жители при аресте клялись нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть и так, что в «пантофелях» скрывался не только коммерческий интерес, а потому погранстражники ходили вдоль составов с мокрыми тряпками и, матерясь во всю ивановскую, стирали все надписи…
Вскоре я на личном опыте убедился, что хваленая германская разведка способна давать «осечки». Недавно в наших краях разместилась воздухоплавательная рота, при ней базировался дирижабль «Беркут», закупленный у французов, а в глуши Мазурских лесов строилась первоклассная крепость Осовец, которая в случае войны с Германией надежно прикрывала Брест-Литовское направление. Конечно, немецкий генштаб засылал агентов для изучения подходов к крепости. Их было, наверное, больше, чем раков в озерах, но лично мне удалось поймать одного.
По фамилии — Берцио! Он имел при себе «легитимационный» билет на право посещения русской территории, а по документам выехал из прусского Кемпена. На мой вопрос о целях визита в Мазовию Берцио наивно ответил, что давно пленен бесподобной красотой мазовшанок и приехал выбрать себе жену. Берцио было лет за сорок. Я, составляя протокол, нарочно спросил:
— Значит, вы холостяк?
Он охотно подтвердил свою версию. Но в его портфеле я обнаружил портативный теодолит с цейсовской оптикой:
— Это для чего? Разглядывать красоту мазовшанок на предельной дистанции? Извините, Берцио, вы арестованы…
Я уже обратил внимание, что при общей потрепанности костюма Берцио воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упруго накрахмаленным. Как и следовало ожидать, под изгибом воротничка раствором пирамидона были изображены схемы наших крепостей и расчеты углов обстрела крепости Осовец.
Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Ломже, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцио на том основании, что опасно заболела его… жена! Тогда ему был предъявлен мой протокол, подписанный самим Берцио, который заодно уж расписался и в поисках красивой невесты:
— Смотрите сами, господин консул. Или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем — на родине и за границей…
Очевидно, этот Берцио считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Граевской бригады, где и поздравили:
— Благодарим, господин поручик: Берцио сознался, что работал на германский генштаб, и ныне осужден по 111-й статье… Ему уготована ссылка в места близ нашей Тюмени.
— В каком же чине этот Берцио мне попался?
— Как выяснилось, он майор немецкой армии.
Будь проклят этот майор; Берцио, как и я, обладал профессиональной памятью и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось на моей работе. Но не стану забегать вперед…
Постоянно связанный с пограничной таможней, я уже тогда начал собирать для себя библиотеку из конфискованных книг. Мне было любопытно знать, что пишут и что думают в других странах и что запрещает читать нам, русским, наша же, русская цензура. Случайно я приобрел книгу Тормана и Гётше, изданную в Берлине в 1895 году. Меня она сильно задела и крепко возмутила. Авторы писали, что к 1950 году всей Европой станут управлять немцы: «Они будут пользоваться политическими правами и приобретать землю. Они… будут народом господ; наряду с этим они дозволят, чтобы второстепенные (грязные) работы выполнялись для них иностранцами, находящимися в их подчинении», — то есть рабами! Так я невольно ознакомился с программой опасного пангерманизма, который впоследствии дал богатую пищу для развития бредовых идей Гитлера, но, судя по тексту, Гитлер тряс дерево, уже несущее ядовитые плоды…
* * *Службою я был доволен. Хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я все-таки взялся за его освоение. В этом мне очень помогли знакомства с местной польской интеллигенцией, близкое приятельство с граевским и мышинецким ксендзами, людьми умными и высокообразованными. Зимою меня навестил в Граево отец, который, увидев сына в обширных солдатских валенках и в замызганной офицерской бекеше, перетянутой портупеей, предался отчаянию.
— Перед тобой открывалась такая широкая карьера! — горевал он. — Твои товарищи правоведы уже ездят на рысаках с подковами из чистого серебра, за одну лишь речь в суде берут бешеные гонорары, многие сделали блестящие партии в браке, а ты… Что ты? Жалкий поручик в занюханном гарнизоне.
У меня не нашлось для отца слов утешения:
— Ах, папа! Лучше уж быть, чем казаться…
4. От Бильзе до КупринаВсе-таки я, наверное, очень сухой человек. Сам не знаю почему, но всегда оставался равнодушен к природе. Я способен оценить ландшафт в целом, как общую картину, но меня никогда не тянуло в лес собирать грибы, я считал идиотами людей, гробящих драгоценное время на сидение возле реки с удочкой. Для меня ничего не значит куст черемухи или сирени, я ни разу не вздохнул над прелестями восхода или заката — мне они не были безразличны лишь по той причине, что определяли время суток. Меня интересовали прежде всего люди с их идеями и выкрутасами психологии, а не то, как ветерок слабо колышет на дереве пожелтевший листочек или поет птичка. Когда мне в книгах встречаются подобные описания, я их сразу же пропускаю, даже не вчитываясь в эти авторские излияния.
Зато я хорошо отношусь к животным! Как раз в мое время какой-то ученый дурак-орнитолог ратовал за уничтожение аистов, считая их вредными птицами, и я был душевно рад, что ни у солдата на границе, ни у местного жителя не поднялась рука наводить ружье на красивых и домовитых птиц, доверчиво строящих свои гнезда подле жилья человека. На заставе в Богуше я стал хозяином молодой кобылы по кличке Рава, и вот прошло много-много лет, а я не забыл нашей любви, нашей подлинной дружбы. Я вообще верю в любовь между животным и человеком. На моих глазах люди, потерявшие свою лошадь или собаку, жестоко спивались, умирали в скоротечной чахотке. До сей поры берегу память о незабвенной Раве: ее давно нет на свете, но я все еще думаю: «Какой-то ее конец? Не обижали ли ее злые люди? Была ли она сыта и напоена? Тепло ли ей было в стойле?..»
Вернусь к делам службы, к ее впечатлениям! Через наши кордоны вся иностранная литература, включая и запретную, поступала скорее, нежели в столичные таможни. Кажется, роман лейтенанта Бильзе «Из жизни маленького гарнизона» еще не появлялся в переводе на русский, когда в Граево мы уже читали его в немецком издании[5].
Был хороший зимний вечер, в нашем гарнизонном собрании мягко светили абажуры, в печах уютно потрескивали поленья… Мы читали вслух о тщетности офицерской карьеры, о затхлом мещанстве офицерской среды, далекой от интересов общества, о низменности духовных запросов в быту офицеров. Лейтенант Бильзе четко обрисовал подлинную жизнь 16-го Обозного гарнизона на границе в эльзасском Форбахе, и, хотя роман был написан об офицерах кайзеровской армии, нам далеко чуждой, теневые стороны германской военщины были в чем-то схожи с недостатками нашей армии. Капитан Никифоров, послушав, сказал:
— Если такие книжки читать, так и служить не захочешь.
Штабс-капитан Потапов, мой приятель, даже смеялся:
— Верно — не захочется! И вот я думаю теперь: не за это ли и дал кайзер по шее этому лейтенанту Бильзе?
«Поединок» Куприна еще не был нам известен, а буря, которую он вызвал, нас еще не коснулась. Но мы уже знали, что «лейтенант Бильзе» — по велению Вильгельма II — за свой роман был предан военному суду. Автору в Германии инкриминировали злонамеренное отражение офицерской морали и дисциплины, оскорбление офицеров, являющихся — по мысли того же кайзера — образцом немецкой нации. За это Бильзе и поплатился очень жестоко: лишенный чести офицера, он был посажен в тюрьму, а его роман «Из жизни маленького гарнизона» был предан публичному шельмованию и сожжению под улюлюканье публики.
Многих больше всего затронули именно последние страницы книги, где Бильзе сравнивал службу в пограничных войсках с тяжким наказанием, а жизнь в захолустном Форбахе добивала в людях любые добрые намерения. Все мы дружно согласились, что, наверное, эльзасский Форбах не лучше нашего Граево: