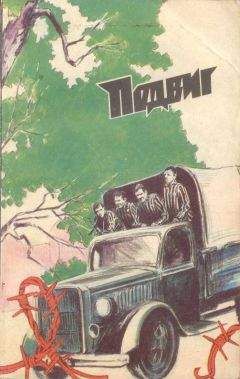Юлиан Семенов - Семнадцать мгновений весны (сборник)
«Какой же я счастливый человек, — подумал он, — какие поразительные люди дарили меня своим вниманием: Дзержинский, Кедров, Артузов, Трифонов, Антонов-Овсеенко, Менжинский, Блюхер, Постышев, Дыбенко, Воровский, Орджоникидзе, Свердлов, Крестинский, Карахан, Литвинов, — господи, кому еще выпадало такое счастье в жизни?! Это как спасение, как отдых в дороге, как сон во время болезни, что я вспомнил их и они оказались рядом… Ну почему я так явственно всех их увидел именно сейчас, когда это так нужно мне, когда это спасение?.. Я снова вспомнил все это оттого, что Ойген сказал про нигилизм, — понял Штирлиц. — Как странно: посыл зла рождает в тебе добро, неужели и это тоже закономерно?»
Он снова ощутил в себе часы, а значит, ожидание. Он не мог более ждать, это страшное чувство разрывало его мозг, плющило тело, сковывало движения, рождало тоску…
«Наши успеют, — сказал он себе, — обязательно успеют, только не думай об этом постоянно, переключись на что-нибудь… А на что мне переключаться? Альтернатива безысходна: если наши не войдут сюда — меня убьют. И все. Обидно, — подумал он, — потому что я относился к числу тех немногих, живших все эти годы в Германии, но вне той Германии… Я поэтому точнее многих понимаю ее, а ее необходимо понять, чтобы рассказать правду о том, какой она была, — это необходимо для будущих поколений немцев… Странное ощущение было даровано мне все эти годы: быть в стране, но ощущать себя вне этой данности и понимать, что такая данность не может быть долговечной… Кто-то верно говорил, что Леонардо да Винчи в своей работе соприкасался со следующим столетием, потому что его ничто не связывало с микеланджеловским идеалом формы: он искал смысл прекрасного в анатомии, а не во внешней пластике… Он был первым импрессионистом, оттого что отрекся от телесных границ формы, чтобы понять суть пространства… Леонардо искал не тело, а жизнь… Правильно, Максим, — похвалил он себя, — продолжай хитрить, думай про то, о чем тебе интересно думать, ты ведь все эти годы был лишен права слова, ты обязан был не просто молчать, это бы полбеды, тебе здесь приходилось говорить, и ты должен был говорить то, во что ты не верил, ты обязан был повторять такие слова, которые ненавидел, порою тебе хотелось закричать от ярости, но ты умел сдерживать себя, потому что любой поступок обязан быть целесообразным, иначе это каприз, никакой пользы делу, невыдержанность, неумение ждать, веруя… Ну вот, снова ты пришел к этому треклятому слову „ждать“ А что я могу поделать, если оно сейчас клокочет во мне? Я же человек, понятие „предел“ присуще мне, как и всем людям, что я — лучше других?»
— Вилли! — крикнул он. — Отведите меня в туалет!
Пришел Вилли, снял наручники, вывел из комнаты. Когда проходили по коридору — длинному, путанному , как и во всех старых берлинских квартирах, мимо дверей, обитых красной кожей, Штирлиц слышал голоса людей, которые быстро, перебивая друг друга, диктовали машинисткам, и из этой путаницы он явственно выделил знакомый голос штурмбаннфюрера Гешке из личной референтуры Мюллера:
— Поскольку бывший французский министр Рейно окружен теперь почетом, как жертва так называемого нацизма, — рубил Гешке, вкладывая в интонацию свое отношение к тексту, — следует учитывать, что его секретарь, весьма близкая ему Мадлен Кузо, была завербована вторым отделом абвера и давала не только весьма ценную информацию о связях ряда членов семьи арестованного министра, но и выполняла оперативные поручения; следовательно, мы имеем возможность в будущем подойти к ней, заставив…
— Тише! — крикнул Вилли. — Я веду арестованного! Прекратить работу!
— Думаете, смогу убежать? — поинтересовался Штирлиц. — Боитесь, что открою французам ваши тайны?
— Убежать не сможешь… А вот если тебя отпустит группенфюрер…
— Думаешь — может?
— Как только придет ответ из твоего Центра — отпустит.
— Зачем же тогда держать меня в наручниках?
— Так ведь ответ еще не пришел… А придет — тебе не с руки бежать, русские расстреливают тех, кто начал на нас работать… Станешь, как бездомный песик, к ноге нового хозяина ластиться…
Штирлиц вошел в туалет, прислонился спиной к двери, быстро разорвал то место в подкладке, где постоянно хранил кусочек лезвия золингенской бритвы, сжал ее большим и указательным пальцами, ощутив звенящую податливость металла, и спросил себя: «Ну что, Максим, пора? Говорят, кровь сойдет через пять минут, в голове будет шуметь, и начнется тихая, блаженная слабость, а потом не станет ни Мюллера, ни Ойгена, ни Вилли, ни всех этих мерзавцев, которые в тихих комнатах, несмотря на то что им пришел конец, затевают отвратительную гнусность, впрок готовят кадры изменников… Или просто слабых людей, которые в какую-то минуту не смогли проявить твердость духа… А отчего же ты малодушничаешь? Уйти, выпустив себе кровь, страшно, конечно, но это легче, чем держаться до конца… Тебе ведь приказано выжить, а ты намерился убить себя… Вправе ли ты распоряжаться собою? Я не вправе, и мне очень страшно это делать, потому что я ведь и не жил вовсе, я только делал работу, двигался сквозь время и пространство, не принадлежал себе, а мне так мечталось пожить те годы, что отпущены, я так мечтал побыть вместе с Сашенькой и Санькой… Но я знаю, что работу Мюллера нельзя выдержать: они сломают меня или я сойду с ума; как это у Пушкина: не дай мне бог сойти с ума, нет, лучше посох и сума… Что тогда? Существовать сломанным психопатом с отсутствующими глазами? Без памяти и мечты, просто-напросто отправляя естественные потребности, как животное, с которым врачи экспериментировали в той лаборатории, где изучают тайну мозга? А еще страшнее предать… Говорят, он предал Родину… Неверно, нельзя разделять себя и Родину, предательство Родины — это в первую голову измена самому себе…»
— Штирлиц! — сказал Вилли. — Почему ты ничего не делаешь?
— Собираюсь с мыслями, — ответил Штирлиц и быстро сунул бритву в карман. — Ты подглядываешь?
— Я слышу.
— Я не могу сразу, — усмехнулся Штирлиц. — Вы ж не даете мне сидеть или ходить, а когда человек лежит, у него плохо работают почки.
Вилли распахнул дверь:
— Ну что ж, стой, я буду за тобой глядеть.
— Но ведь секретарши могут выйти.
— Ну и что? Они — наши, им не привыкать…
— А если мне нужно по большой нужде?
Вилли вдруг прищурился, глаза его сделались как щелочки:
— Ты почему такой бледный? Открой рот!
— У меня нет яда, — ответил Штирлиц. — И потом, цианистый калий убивает в долю секунды…
— Открой рот! — повторил Вилли и быстрым, каким-то рысьим движением ударил Штирлица по подбородку так, что рот открылся сам собою. — Высунь язык!
Штирлиц послушно высунул язык, спросив:
— Желтый? Сильно обложило?
— Розовый, как у младенца… Зачем ты попросился? Ведь не хочешь… Пошли обратно.
— Как скажешь. Все равно через час попрошусь снова.
— Не поведу. Тебя можно водить только три раза в сутки. Терпи.
…Когда Вилли вел его назад, в комнату, Штирлиц успел услышать несколько слов. В голову ахающе ударила фамилия маршала Говорова. Он не успел понять всего, что говорилось об отце военачальника, потому что Вилли снова гаркнул:
— Прекратить работу! Я иду не один!
В комнате он надел на руки Штирлица наручники, прикрепил левую ногу к кушетке и достал из горки бутылку французского коньяка.
«Наверняка возьмет толстый стакан, — подумал Штирлиц. — Маленькая красивая хрупкая коньячная рюмка противоречит его внутреннему строю. Ну, Вилли, бери стакан, выпей от души, скотина…»
Однако Вилли взял именно коньячную рюмку, плеснул в нее, как и положено, на донышко, погрел хрусталь в ладонях, понюхал, мечтательно улыбнулся:
— Пахнет Ямайкой.
«Ах да, он ведь работал в консульстве, — вспомнил Штирлиц. — И все-таки странно: здесь, когда он не на приеме, а сам с собой, он должен был выпить коньяк из толстого хрустального стакана…»
…Несколько снарядов разорвались где-то неподалеку. Канонада, которая доносилась постоянно с востока, а потому сделалась уже в какой-то мере привычной, сразу же приблизилась. Штирлицу даже показалось, что он различил пулеметные очереди; нет, возразил он, ты выдаешь желаемое за действительное, ты не можешь слышать перестрелку, если бы ты мог ее различить, то, значит, наши совсем рядом, а они хоть и рядом, но все-таки меня отделяют от них десятки километров, пара десятков, наверное.
— Послушай, Штирлиц, — сказал Вилли, — ты догадываешься, что с тобой будет?
— Догадываюсь.
— Сколько заплатишь за то, чтобы я помог тебе уйти отсюда?
— Ты не сможешь.
— А если? Откуда ты знаешь, что не смогу… Сколько заплатишь?
— Называй сумму.