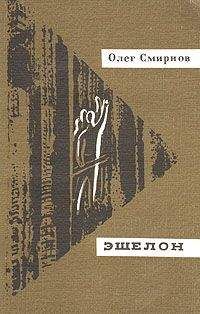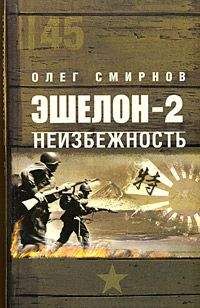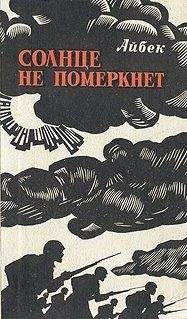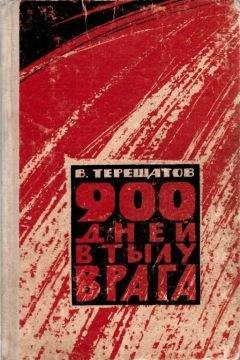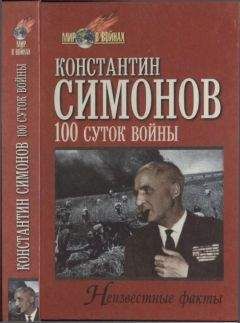Олег Смирнов - Прощание
— Иди сменяйся, я еще трохи подежурю…
Зачем же ты, Скворцов, оттягиваешь разговор с Ирой и Женей? Перед войной не поговорил, поговори теперь. Это, может быть, последняя возможность. Может быть, и не свидимся. Не отважишься никак?
10
Я шептала Ирке: давай, мол, все-таки останемся на заставе, она не соглашалась, твердила: как Игорь сказал, так и будет. Белянкин засек наше перешептывание, вмешался:
— Ох и вредная ты девка, Женька! Тогда баламутила, сейчас баламутишь.
Но я не обиделась на его грубость. Я еше и не то заслужила. А если б и не заслужила, разве до обид — после пережитого за день? Я вижу страдания и смерть людей. До войны это были обыкновенные хорошие хлопцы, сегодня я убедилась: геройские хлопцы. Смерти они не боятся нисколько. Я тоже не боюсь. И это не от геройства, которого в помине нет, а потому, что глупа, наверное. А вокруг меня убивают. Нету в живых милого Васико Брегвадзе. И многих-многих пограничников. И детей Белянкиных… Погибших не воскресишь. Но отплатить за них нужно. Убили немцев немало, предстоит — еще больше. Они ответят за все. Своей рукой убивала бы фашистов! У меня же значок «Ворошиловского стрелка», в школе нормы сдала. Доверили б винтовку, стреляла бы без промаха. Но я женщина, и пришлось обихаживать раненых. Бедные хлопчики! Их также покинуть? Будто недавно постучался в дверь Витя Белянкин. Я думала, это Игорь, и сердце затрепыхалось: Игорь ко мне? Не смыкала же глаз, ждала… А вошел Белянкин, волнуясь, сказал, чтоб я на скорую руку одевалась, немедленно пойдем в блокгауз.
— Фашисты, возможно, постреляют.
— Ну и пусть стреляют. Я буду спать.
— Собирайся без разговоров! Ира и Клара с детьми уже собираются…
— А я буду спать!
У нас на Кубани говорят: норовистая лошадь. Это о женщинах с норовом. Я и есть норовистая кобыла. Нехотя я оделась, вышла в коридор. Витя Белянкин подгонял:
— Пошевеливайтесь, девоньки! Пошевеливайтесь, бабоньки!
В подвале мигал язычок лампы, коптил. Было, как и в блокгаузе, — душно, смрадно, тоскливо. Я сжалась: вот-вот Белянкин повторит то, что он кидал на рассвете: «Пошевеливайтесь, девоньки! Пошевеливайтесь, бабоньки!» Но он молчал, гладил Клару по голове. Я задремала. Пробудилась от прикосновения: и меня гладили по голове. Игорь. Он наклонился:
— Пора, Женя. Вставай.
Я задержала его руку в своей, и он не противился. Сама отпустила. Игорь будил Иру, говорил Белянкину:
— Безлунье. Не мешкать!
Пора так пора. Как ты захочешь, Скворушка. Я готова. Только вот встретимся ли мы с тобой когда-нибудь? Даже если ты уцелеешь в этом пекле и я останусь живой. Не встану между Ирой и тобою. Укачу куда-нибудь на Дальний Восток, в Сибирь, в тайгу, чтоб с глаз долой — навсегда. Замуж выйду, понимаешь? Наши сборы не разбудили раненых. Двое из них стонали, бредили, двое безмолвны. Не скончались ли? Я мысленно простилась с ними, попросила прощения, что ухожу. Из овощехранилища мы выбрались друг за другом: Игорь, я, Ира, Клара, замыкал Белянкин. Наверху к нам присоединился Иван Федосеевич, зашагал возле Игоря. В таком порядке мы и шли по ходу сообщения. Было темно-темно. Иногда немцы пускали ракету — мы замирали, не двигались, пока она не прогорала и становилось вовсе непроглядно. В лесу, за болотом, кричала сова. Беду накличет?
Не хотела отставать от размашисто шагавшего Игоря, от семенившего за ним Ивана Федосеевича, я частила, спотыкалась, в тапочки попадали комья, правая слетела, на ходу кое-как поправила. Иван Федосеевич, спасибо, был низкорослый, и над ним маячила голова Игоря. Как жадно я вглядывалась в нее! Игорь шел впереди, а было ощущение: идет вспять, мне навстречу, мы вот-вот соединимся, и строгий Иван Федосеевич нам не помеха. Он-то не стоит на нашем пути, другой человек стоял и стоит, а теперь и война встала, разделив непробиваемой стеной. Обернись, Скворушка, скажи словечко! Не оборачивается, не говорит, предостерегающе делает отмашку рукой — ракета, и мы, остановившись, пригибаемся: ход сообщения неглубокий, чем ближе к полю, тем он мельче. У подножия бугра, на травянистом пятачке, и вовсе оборвался. Мы сбились кучкой, шумно дышим. Не со мной это происходит! Это не я покидаю раненых, убитых и живых, не я расстаюсь навеки с Игорем. Нет, я, Женька Петриди, наломавшая в своей короткой жизни дров. Но ни в чем не раскаиваюсь. Любила и люблю Игоря. Что будет? Да что загадывать о будущем, если неизвестно, что станется со мной, с Игорем, с каждым из нас час спустя! Может, никого и в живых-то не сыщется, и другие люди будут любить, мучиться и радоваться. Иван Федосеевич сунул мне сумку из-под гранат: «Тут харч на дорогу», Ирке — свернутое байковое одеяло: «Пригодится», на Клару накинул телогрейку, ничего не сказав. Игорь обнял меня, поцеловал.
— Прощай. Прости…
Обнял Ирку, поцеловал, повторил те же слова. Он еще что-то порывался сказать и ей и мне, но не сказал, обнял Клару:
— Счастливого пути, дорогие!
Витя Белянкин поцеловал нас с Иркой, от Клары никак не мог оторваться. Иван Федосеевич поручкался с нами, посоветовал:
— Держитесь стежки, не свертайте. В селах остерегайтесь националистов, продадут, иуды. Не к мужикам обращайтесь, к бабам, они помягче, подобрей… Путя пускай кажет Ирина, она в здешних краях хаживала, Евгения — замыкающая. Так, товарищи командиры?
— Так, — сказал Игорь сдавленно.
А Виктор не отозвался, припал к Кларе, вздрагивая от плача. Ирка всхлипывала, Клара шмыгала носом, а у меня — ни слезинки, только горло перехватило, и я не могла говорить. А когда мы отошли метров на сто, слезы полились безудержно. Я плакала и оглядывалась, хотя тропа свернула за косогор, в ржаное поле, — позади, кроме темени, никого и ничего. Возникла дикая мысль: отстать, пусть себе идут, а я поверну вспять. Замедлила шаг. Клара удалялась, растворяясь во мраке. И я испугалась за них, за двоих: как они без меня? Нет уж, коль решено, идем втрех. Мне ведь и так повезло: замыкая, я последней видела Игоря, он был мой — напоследок.
* * *С дороги я не сбивалась. Старшина прав: хаживала по округе. И езживала. Не одна — с мужем. Удивительно, но тогда у Игоря выкраивались для этого оконца в службе. И вот — бродили вдвоем по лесам, с лукошками для грибов и ягод, вдвоем катались на бричке из села в село, заходили в магазины, покупали нужное и ненужное — со смехом, с шуткой. Мнится, не перенесу сегодняшних… уже не сегодняшних, вчерашних потрясений. И тяжелейшее из них — гибель белянкинских мальчиков. За что же их, невинных? Каково отцу с матерью? Не в состоянии представить: у меня были дети, — и убило. С ума можно сойти. И Клара, похоже, не то что сошла, но не в себе. Ах если б у меня были дети! Я так их хотела, хотел муж, дочку ли, сына… Муж утешал: еще будут. И были б, кабы не война. Знаю: Игорь ко мне вернулся бы. Я его заранее простила, потому что люблю. И Жеку прощу, она же моя сестра, глупая девчонка. Вчерашний день все смешал. Прав был муж, предостерегая: немцы нападут.
Я думаю про все это, а надо бы про иное. Правильно ли веду? Как с Кларой? Не отстает ли Жека, и на немцев чтоб не напороться. Вела правильно, хотя в ночи мест не узнавала, просто старалась не утерять стежку, как и учил старшина. За спиной надсадно дышала Клара. А вот как с Жекой — не видела, решила иногда останавливаться, чтоб все сходились, и убеждалась: здесь Жека; в эти секунды мы все трое поворачивались лицом туда, где застава, — рожь, кусты, косогор, а дальше не разобрать. Ну, а что касается немцев, то я откровенно боялась, и не того, что пуля попадет, а того, что мы попадем в их руки. Я вообще трусиха. Готовилась в учительницы — стала женой пограничника. Когда Игоря поднимали ночью по тревоге и он убегал, на ходу одевался, дрожала от страха — скорей бы возвращался, скорей бы наступало утро: нарушители боятся света. Муж возвращался, заляпанный грязью, усталый. И веселый!
Чужие ракеты загорались слева, нас укрывал склон холма, но все равно я приседала, пока ракета висела в небе. Где-то сбоку слышались обрывки немецкой речи, и у меня от страха начинали заплетаться ноги. Вдруг на тропе возникнет фашист с автоматом? Представив это, едва не кинулась наутек. Да вовремя сообразила, что наткнусь на Клару, а за ней — Жека. Перестань трястись! Что может быть страшнее того, чему ты была свидетельницей на заставе? Уговариваю себя, а бьет, как в лихорадке. Или просто замерзла? Сыро ведь, промозгло, старицы и болота. Согреться бы! Как? А одеяло? Я развернула его, набросила на себя. Теплей. И тащить не надо; руки свободные. Трясет как будто поменьше. Постепенно тропа увела нас вниз и в сторону от немцев. Голоса их не слышались, ракеты взлетали позади. А впереди была непроглядная темнота, но за дальними лесами вставало огромное зарево. Уж там-то было светло, и подумалось: нам туда, на этот багровый, смертный свет. Сколько мы прошли, не знаю, но внезапно ощутила такую усталость, что готова была упасть. Шла, шла — и будто заплели мне ноги. Я свернула с тропы, присела на пенек, рядом опустилась Клара, Жека устроилась на другом пне. Клара, клацая зубами, спросила: