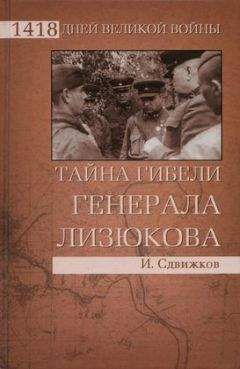Василий Козлов - Верен до конца
— А в этом же Киеве возьмите Бессарабку или Еврейский базар. Полно босоты, бурлаков, как я и мои товарищи плотогоны. За любую работу схватиться рады: поднести кому корзину с овощем, дровишек наколоть, сарай починить… Руки есть, а работы нету. А на днепровской пристани? На Подоле, на окраинах, где фабрики? Рабочий люд по таким хибаркам ютится, что и скотину пожалел бы туда загонять. Так что тем сладко, у кого брюхо гладко.
Не все мы, ребятишки, понимали в рассказах деда Трофима. Но крепко запало в душу: нет на свете работы интереснее, чем у плотогона. Свяжем, бывало, несколько жердин, бросим в воду речки Белицы и, вооружившись шестами, плывем «в Киев» или аж к «самому морю».
Перезимовав в Заградье, дед Трофим с весны отправлялся с новыми плотами. У нас дома говорили, что он не столько «длинный рубль» ищет — работа плотогона тяжелая, опасная, да и не видать что-то было по осени этого «длинного рубля» — сколько манит деда вольный простор, широкий свет, встречи с такими же, как он сам, бывалыми, бесстрашными людьми.
Дед не раз говаривал:
— Тут, в Заградье, знай ломай шапку: то перед урядником, то перед паном управляющим, то перед попом, то перед лавочником. А там я вольный казак!
Отец мой Иван Трофимович был человек другого склада: из родной деревни на заработки никуда не подавался.
Помню я его плотным, крепким, здоровым. Ходил он по-солдатски подтянутый, одевался чисто. Кое в чем отец все же пошел в деда: остер он был на язык, любил в кругу своих деревенских мужиков едко, с юмором высмеять то попа, то панского прихвостня. Подрастая, я гордился тем, что односельчане уважали моего отца за ум, рассудительность, смекалку. К тому же был он искусным мастером: строил мосты, рубил новые избы, делал всякие плотницкие работы на железной дороге. Услыхав позже выражение «золотые руки», я сразу же вспомнил руки отца.
Однако жили мы бедно. Какие заработки простому рабочему в наших краях?
Иногда, горько шутя, отец говорил:
— От нашей работы будешь не богат, а горбат. Мать обычно вставляла:
— Мужик спину не согнет — хлебушка не добудет.
Звали ее Марья или, по-деревенски, тетка Марута. Роста она была высокого, сложена ладно, очень сильная. Лицо имела открытое, веселое, часто щурила глаза, любила посмеяться. Человеком мать моя была чрезвычайно деятельным, энергичным: я не помню, чтобы она сидела сложа руки.
Ее можно было видеть не только в кругу женщин, но и с мужиками, толкующей о трудностях житья-бытья, о севе, косовице. Ее громкий голос часто раздавался на крестьянских сходках, когда нанимали общественного пастуха, сторожа или брали в аренду у помещика луг для пастьбы скота или сенокоса. Если решался вопрос о ремонте дороги, гребли, моста, о подвозе топлива школе, не обходилось и тут без тетки Маруты. Наблюдательная, словоохотливая, она то и дело сыпала колючими поговорками, могла метко «отбрить» языком. К ее смелому, справедливому слову народ прислушивался. Мать не боялась сказать правду в глаза и старшине и стражнику.
Можно было ее увидеть и по вечерам среди парней, девушек: вместе с ними она пела песни, шутила, и в тихую погоду ее сильный голос разносился на всю деревню. Односельчане охотно обращались к ней со своей докукой, за советом.
Отец с матерью жили дружно, и про них в деревне говорили: «Они как цветок Иван-да-Марья». Надел у них был в три десятины, а детей целая куча — девятеро. Четверо, правда, умерли в малом возрасте. В доме всегда стоял детский галдеж, было тесно, душно.
Избенка наша, или, как называют белорусы, хата, была старая, в общей сложности не больше двадцати квадратных метров. Окна маленькие, подслеповатые, и вечно какое-нибудь из трех заткнуто тряпкой: разобьем мы, детишки, а где в деревне возьмешь стекольщика? Поэтому стекла были составлены из мелких, склеенных меж собою кусочков. Когда их протираешь, непременно порежешь пальцы. Пол запомнился мне рябым от щербин. В доме имелась ступа, в ней часто толкли пшено, и, передвигаемая по полу, ступа оставляла вмятины. Доски пола ходили — встанешь на один конец, а другой подымается.
От печи до стены тянулись полати. Делились они на две части и служили общей кроватью для всей нашей большой семьи. Спали мы на соломенном тюфяке, накрывались домотканой холщовой дерюгой. Дерюга была такая тяжелая, что младший мой братишка сам не мог из-под нее вылезти. Подушек не было. Вернее, они были в доме, но мать хранила их в приданое для Маши, старшей сестренки, и нам не давала. Подушки были у взрослых, их часть полатей всегда была застланной.
Вдоль стен и возле стола тянулись «услоны» — лавки из толстенных досок работы деда и отца, выскобленные добела. В углу всегда была насыпана картошка, которая там не прорастала; основные запасы «бульбы» хранились в яме под полом.
Сундук белоруса свидетельствовал о зажиточности хозяев: каков сундук — таков и достаток. В нашей хате в углу стоял маленький ободранный сундучок.
Зато над полатями, где спали родители, тянулась жердочка. На этой жердочке красовался весь скарб семьи, все ее богатство: материн полушалок, связанные за ушки стоптанные сапоги отца, которые ему перешли от деда. Сапоги предназначались только для больших праздников, их брали у отца «напрокат» и друзья и родственники. У матери на жердочке висел хитро завязанный узелок с гостинцами, чаще всего тыквенными семечками. Висел он в самом углу, так, чтобы до него нельзя было добраться нам, детворе. А все, кто к нам приходит, пусть видят, что у нас немало всякого добра.
Для чего я так подробно описываю приметы тогдашнего быта? Все это ушло, ушло безвозвратно. Сегодняшняя молодежь может увидеть соху или домотканую рубаху разве что в музее. А вот у меня все это в памяти. Поэтому для людей моего поколения столь наглядны великие перемены, происшедшие в жизни страны за полвека.
…Стояла наша хата на окраине Заградья, прижатая к большому топкому болоту. Во дворе в сараюшке мы держали коровенку: старая, беспородная, молока она давала совсем мало — едва забелить похлебку малышам. Обычно к весне из-за бескормицы коровенка наша еле передвигала ноги, все лето нам приходилось бегать с мешками за травой, рвать ее, где только можно. На задах у нас был разбит огород, там сажали капусту, лук, «бульбу» — главную нашу еду.
Наша деревенская кличка была «Луговцовы». И не только потому, что жили мы на окраине, у самого болотистого луга. Весной, начиная с мая, мы тоже вместе со скотиной «паслись» на лугу. Рвали щавель, ели сердцевину лугового ириса — аира, отыскивали на болоте рогоз, лакомились его белым мучнистым корнем. В ход у нас шла и крапива, и лебеда, и всякая другая съедобная трава. Из аира делали пищалки, свистели, что есть силы, на разные голоса: это была наша музыка.
И в Заградье и в соседних деревнях народ перебивался бо́льшую часть года с хлеба на квас. Да и хлеба не всегда хватало до нового урожая. Из-за безземелья мужики строились тесно, чуть ли не крыша в крышу, так что куры каждый день перелетали на чужую «усадьбу» и хозяйки нет-нет, да и подымали из-за этого свару.
Ну да потравы соседских огородов — это еще полбеды!
Беда приходила, когда крестьянская скотина забредала на помещичьи пастбища, луга, а то на так называемую железнодорожную полосу отчуждения. Коровенок немедленно захватывали объездчики, и крестьянам приходилось платить денежные штрафы, отрабатывать помещику.
Бывало крестьяне целыми селами отрабатывали пану Цебржинскому за потравы, за право пасти скот на его болотах, а также за заготовку валежника, хвороста, за сбор грибов и ягод. Причем хитрый пан заставлял «нести барщину» в самую горячую страдную пору, когда, как говорится в народе, каждый день год кормит.
Из-за малоземелья не только нельзя было посеять, сколько надо, ржи, картошки, но и негде накосить сена. Заградские женщины и подростки спозаранку уходили в ближайший лес, на болота, собирали по пучочкам траву, «будто козы на бегу», и в мешках, в фартуках приносили домой небольшие охапки. Чтобы не провалиться в топь — а то засосет, утонешь, — брали с собой длинные палки: в случае беды бросишь ее на кочки, подтянешься и выберешься из топи. Кое-кто серп прихватывал, чтобы резать траву, о которую кровянили руки. Конечно, попутно все баловались и ягодой, набирали полные кошики, сплетенные из лозы. Домой нередко возвращались мокрые по грудь, перемазанные грязью.
Земли было не только мало. Была она еще и малоплодородна: заболоченная, супесчаная. Раскиданы были мужицкие наделы нашей деревни в сорока семи участках чересполосного пользования: там кусочек, тут кусочек. Иные из этих полосок такие узкие, что на них еле могла поместиться деревянная борона; при обработке земли борона заскакивала за межу, задевала «владения» соседа. Земля для крестьян главная кормилица. И поэтому даже между добрыми соседями вспыхивали ссоры, завязывалась вражда. Случалось, и у родных братьев дело доходило до жестоких драк, до увечья, а вгорячах и до убийства.