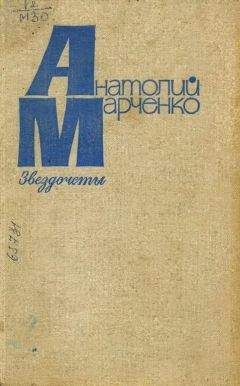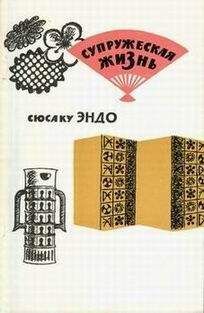Анатолий Марченко - Как солнце дню
Антон лежал почти без признаков жизни. Я разжал ему зубы, и вода тонкой струйкой полилась в сухой рот. Сейчас ему станет легче. И все же мне было как-то не по себе из-за того, что поил товарища из немецкой каски, что там, у ручья, лежит ее владелец.
Антон открыл глаза и удивленно уставился на меня.
— Я думал, что ты ушел совсем, — сказал он.
Здорово живешь! И как только мог подумать? Если он мог так подумать, значит, считает, что теперь, когда круто изменилась обстановка, люди тоже могут круто измениться? Я снова поднес к его губам каску, он еще немного отпил и затих.
Что же дальше? Пожалуй, надо дождаться ночи, выйти на шоссе, выяснить обстановку. Если все будет более или менее спокойно, то снова взвалить Антона на плечи и добраться до ближайшего села. Там были хорошие, надежные люди, всегда охотно помогавшие нам в охране границы. Можно будет на время оставить у них Антона, передохнуть и найти своих.
Приняв решение, я немного успокоился. Хорошо, когда человек из самого сложного положения находит выход.
Антон попытался встать, но я удержал его. Он уже спокойно, даже равнодушно подчинился и, не отпуская моей руки, проговорил:
— Алексей, она не та…
— Хорошо, говори, я буду слушать тебя. Говори.
Лучше сразу, только правду. Самую горькую, самую ядовитую, но правду. Самую жгучую пулю, но — в сердце. Тогда — конец мучениям.
Но Антон умолк. Я терпеливо ждал, что он заговорит, и даже не заметил, как задремал, прислонившись к стволу дерева.
Очнулся перед самыми сумерками. Солнце сползало по верхушкам деревьев. Закат горел, и казалось, пламя ползет к небу прямо из лесной чащи.
В вещмешке у Антона я нашел начатую пачку галет. Торопливо, будто боясь, что отнимут, сунул галету в рот. Хрустнул так, точно наступил ногой на сухую ветку. Галета была твердой, как керамическая плитка. Нет, галету Антону не разжевать. Он еще спал, и до его пробуждения я решил снова сходить к ручью и набрать воды, чтобы размочить галеты. Шоколад оставил про запас.
Над оврагом неслышно угасали последние отблески солнечных лучей. У ручья, в кустах, уже зарождались мрачные тени. Еще с обрыва я невольно взглянул на то место, где оставил немца.
И едва не вскрикнул: немца не было! Но может быть, я ошибся или запамятовал, где он лежал? Спустившись в овраг, различил свои следы и увидел тот самый куст, под которым положил немца.
Немец исчез!
Неужели унесли? Кто мог это сделать? Немцы? Значит, они тут, в лесу, рядом с нами? Или он сам пришел в себя и уполз куда-нибудь в более безопасное место?
В смятении я вернулся к Антону. Мне не терпелось рассказать об исчезновении немца, но понял, что сейчас ему не до меня. Размочив галеты, я покормил его.
Пришел вечер, сменивший такой короткий и такой необычно длинный день. Впереди была ночь, полная неизвестности и тревоги.
2
— И как она могла… — снова заволновался Антон.
— Да кто же, кто? Говори!
— Лелька…
— Она жива? Где ты видел ее? Где?
Молчание. Да что же это такое, в конце концов! Сколько можно терзать меня? Ну и что же, если даже кому-то она улыбалась? Лишь бы была жива!
Антон молчит, и надо терпеливо ждать, когда он заговорит снова…
Первые минуты боя, вспыхнувшего на границе, были для каждого из нас по-своему несхожими: для одного это была мысль о славе, для другого — последний поцелуй, для третьего — смерть.
Для меня, Алексея Стрельбицкого, это был вопрос, немой вопрос, который едва не перешел в отчаянный вопль: «Что с Лелькой?!» Да, сразу же, как только я услышал резкий выкрик дежурного, поднявшего заставу в ружье, подумал о Лельке. Впрочем, была ли такая минута в моей жизни, когда бы я не думал о ней? Всходило солнце — Лелька. Горели звезды — Лелька. Радость — Лелька. Горе — тоже Лелька.
Она приехала на заставу десять дней назад. Ее приезд вызвал у меня двойственное чувство. Я был очень рад, что именно ко мне, а не к кому-то другому примчалась эта девчонка, которой, казалось, сам черт не брат. И все-таки было как-то неловко перед товарищами: на границе тревожно, а тут — девушка.
Лелька остановилась у своей дальней родственницы Клавдии, жены начальника нашей заставы лейтенанта Горохова. Это меня утешало, но все же бойцы сразу почувствовали, что Лелька приехала не столько из-за того, чтобы повидать Клавдию. Я старался на виду у всех держаться с Лелькой сдержанно, как бы подчеркивая, что отношусь к ней так же, как и все остальные бойцы. Но Лелька была из тех девушек, которые не только не любят ничего скрывать и создавать тайну из своих привязанностей, но просто-напросто не умеют этого делать. Она открыто выражала свои чувства ко мне и откровенно радовалась, если узнавала, что о ее разговоре со мной или о наших прогулках в роще становилось известно другим. Да и вообще-то разве на заставе что-нибудь скроешь?
Застава очень понравилась Лельке. Она любила все необыкновенное. С такой же жадностью, с какой она набрасывалась в институте на новые предметы, без сожаления расставаясь со всем, что переставало быть для нее тайной, и принимаясь разгадывать еще не познанное, Лелька изучала заставу, ее людей, ее неповторимые особенности. Все, что уже стало для нас привычным, даже то, что успело нам опостылеть, ей было в новинку, и она не переставала удивляться, задавать вопросы, смеяться и возмущаться.
Лейтенант Горохов, совсем еще молоденький офицер, чуть старше своих подчиненных, ревниво оберегал строгие воинские порядки, не терпел, когда нарушался суровый ритм солдатской жизни. Недавний выпускник училища, он наивно верил, что любое явление, любой случай можно подвести под ту или иную статью устава. Поэтому приезд Лельки был для него очень обременительным, и он предъявил к ней самые жесткие требования.
— Застава — это воинский гарнизон, — говорил он, стараясь не смотреть Лельке в глаза. — Разрешаю приходить сюда только в кино или на концерт. Вместе с моей Клавдией. — Жену он считал человеком, особенно чутко умеющим понимать сущность воинского порядка. — Можно прийти, к примеру, на кухню за кипятком. А среди бойцов мельтешиться незачем.
— А к Алексею можно?
— К кому?
— К Стрельбицкому.
— Знакома?
— Давно!
— Ты чувствуешь обстановку? Понимаешь, чем пахнет?
— В воздухе пахнет грозой! — смеясь, пропела Лелька.
— Точно — подхватил Горохов. — А раз грозой, значит, шутки в сторону. Отвлекать бойцов от боевой подготовки запрещаю. Ясно?
— А танцы в субботу?
— Какие танцы?! — Горохов скривился, будто хватил чего-то кислого.
— А на вышку можно?
— Прекрати!
— Значит, уеду с заставы и ни разу на вышку не залезу?
— Ты что, хочешь, чтобы меня в анекдот вставили? По всей границе склоняли? Чтобы на той стороне немцы за животы похватались?
— Так уж и похватаются. А может, они мной любоваться будут.
— Кончай, Лелька! — рассвирепел Горохов. — Не будешь подчиняться — отправлю с заставы!
— Ой, как интересно! — завизжала Лелька. — Верхом на коне, да? А кто меня будет сопровождать? Алексей?
Лелька выводила Горохова из себя. Она кого угодно могла вывести из себя, если бы ей захотелось. И Горохов оказался бессильным: Лелька то появлялась на стрельбище, где просила дать ей метнуть фугаску, то крутила патефон в ленинской комнате и пыталась, пользуясь отсутствием Горохова, устраивать танцы, то условными знаками — мальчишеским свистом или камешком, брошенным в окно казармы, — старалась вызвать меня к себе в то самое время, когда я при всем желании не мог к ней выйти.
Как-то меня назначили в наряд на пост наблюдения. Был ветреный сырой вечер. Звезды учащенно мигали, будто им больно было смотреть на землю. На сопредельной стороне, в лесу, не переставая, скрипуче вздыхали сосны, с дороги, скрытой деревьями, доносился злой лязг гусениц, визжали тормоза автомашин. Где-то совсем близко хрипло лаяла овчарка.
Я поднялся на вышку перед вечером и с наступлением темноты должен был уйти на левый фланг участка. Взглянув на часы, собрался было уходить, но услышал легкий непривычный скрип ступенек. Пришла проверка? Нет, это не тяжелая поступь солдатских сапог. Скрип усилился: кто-то стремительно поднимался по лестнице. Еще секунда — и в крышку люка легонько постучали, послышался отчетливый шепот:
— Але-шень-ка…
Лелька! Я нагнулся над люком, чуть приподнял крышку. Прямо на меня смотрели немигающие Лелькины глаза. От волос пахло хвоей, она прерывисто дышала.
— Уходи, сейчас же уходи, — пытался я прогнать ее. — Зачем ты пришла? Спускайся быстрее…
— Не хочешь меня видеть? — удивленно и обиженно спросила она.
— Хочу. Очень хочу. Но не здесь.
— Боишься?
— Пойми, устав, инструкция…
— Эх ты, инструкция. Или открой, или прощай.