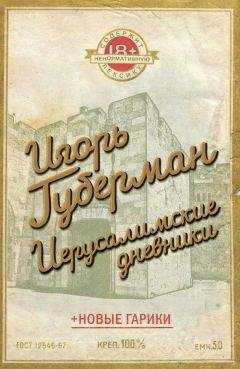Игорь Подбельцев - Июльский ад (сборник)
— Генерал Боков? — не сразу поняв, о чём и о ком идёт речь, переспросил Павел Алексеевич.
— Ну да, Боков, — улыбнулся Никита Сергеевич и тут же посерьёзнел. — Повторяю, генерал ждёт вас и… И при необходимости, скажу вам прямо, организует встречу с самим товарищем Сталиным.
Ротмистров внимательно и чуть с недоверием посмотрел на Хрущева: нет, член Военного совета фронта не шутил. Серьёзен был и Малиновский.
— Что ж, — выпрямляясь и вытягиваясь как по команде «Смирно!», сказал генерал Ротмистров, — как бы там ни было, я готов доложить, вернее — высказать своё мнение по данному вопросу и в Генштабе, и Верховному Главнокомандующему.
— Вот и прекрасно! — Малиновский широко улыбнулся, пожал генералу руку. — Вот и прекрасно, вот и хорошо! А теперь, Павел Алексеевич, незамедлительно отправляйтесь в Москву. Командование корпусом возложите на генерала Вовченко.
— Слушаюсь, товарищ командующий!
— Да, и вот ещё что, — Малиновский снова почесал переносицу, — когда прибудете в Москву, то до встречи с Боковым постарайтесь, пожалуйста, переговорить с командующим бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии Федоренко. Он вам, надеюсь, кое-что подскажет — нужное и полезное.
— Слушаюсь, товарищ командующий! Обязательно зайду к Федоренко.
— Ну, тогда, как говорится, с Богом!
— Ни пуха ни пера!.. — добавил Хрущев.
Ротмистров вздохнул и негромко ответил:
— К чёрту!..
ДВА ЛЕЙТЕНАНТА
Около танков, над которыми в целях маскировки была натянута сетка, прогуливался часовой. Чуть большеватую для него шапку-ушанку он завязал под подбородком; стоячий воротник шубного тулупа как-то нелепо торчал вверх, словно крышка открытого люка танка; руки в рукавицах часовой запрятал поглубже в рукава, предоставив автомату безалаберно болтаться на груди; высокие новенькие валенки заставляли несчастного дозорного ходить вокруг боевых машин чуть ли не строевым шагом. Он замёрз, как говорится, «в дугу», и по чём зря проклинал ненавистного Гитлера, развязавшего эту кровопролитную многолетнюю войну, которая — чёрт его знает! — когда ещё окончится; проклинал зиму с её жуткими морозами и колюче-снежными метелями; проклинал этот час, в который ему, согласно составленному командиром батальона графику, предстояло сейчас не то что мёрзнуть, а прямо-таки коченеть, охраняя могучие смертоносные машины.
Конечно же, часовой, коротая караульное время, сыпал проклятиями не вслух: во-первых, немцы не так уж далеко, а жить ему ещё не надоело; во-вторых, если бы он раскрывал рот, высказывая своё мнение о войне, то и губы запросто обмёрзли бы при таком холодище, или, не дай Бог, холодище этот во внутренности его организма забрался бы, — так что он, часовой, проклинал всё на свете белом в уме, про себя, одновременно вслушиваясь в зимнюю ночь. Поэтому сразу же и услышал чьи-то скрипучие на морозе шаги и несколько сипловатый голос:
— Эй, военный!.. Чего согнулся-то?… Замёрз, что ли?…
Часовой обернулся, пристальнее вглядываясь из-под заиндевевших бровей в подходящего к нему человека, хотел было взяться за автомат, но тут же передумал, потому что узнал командира танка Кошлякова.
— А-а, товарищ лейтенант!.. — протянул часовой. — Да как тут не замёрзнешь — не май месяц…
— Это точно, — согласился лейтенант. — Ну, а как, на сон не тянет?
— Какой гут сон к дьяволу! Первое — от мороза не заснёшь, а второе — я сон плохой видел: будто бы меня на посту зарезали. А вот то ли немец, то ли наш — ей-Богу, не разобрал…
— Ах, какой же ты суеверный!.. Ну что ты буровишь!.. Лучше скажи мне, ты случайно братца моего не видал? Ищу его уже с полчаса, а найти никак не могу: как сквозь… снег провалился…
Часовой пристальнее вгляделся в лицо Кошлякова, разочарованно качнул головой:
— Ну никак я рас не различаю: то ли вы это, то ли ваш брат?… Извините, товарищ лейтенант, вы кто?… По имени…
— Эх ты, чудо гороховое, сколько меня знаешь — года полтора, считай, а до сих пор с Валентином путаешь! — рассмеялся Кошляков. — Василий я…
— Кто вас разберёт, — проворчал часовой, — вы с братом— как с одной иконы писаны.
— Но-но, «с иконы»! Нашёл святых… Забыл, что мы самые ярые атеисты? Забыл, что в Бога не веруем?
— Да ничего я не забыл, товарищ лейтенант. Но всё равно, без веры в душе жить, а особливо — воевать, как-то… неспокойно, что ли…
Верить можно во многое. Я, например, лично в товарища Сталина верую… Он для меня и Бог, и отец родной…
— Ну, а кто ж в него не верует? — ухмыльнулся часовой. — Слыхали и знаем, что, как только пехота в атаку идёт, так непременно кричат: «За Родину! За Сталина!» Да и мы, танкисты, тоже не лыком шиты… Ни за что не уступим пехоте…
Кошляков безапелляционно пресёк иронические разглагольствования часового:
— Как твоя фамилия, боец? Что-то я запамятовал…
Тот мгновенно осёкся, сразу же сообразив, что к чему, а затем попытался принять стойку «смирно!» и щёлкнуть валенками, словно каблуками сапог. Но ничего у него из этой попытки не вышло, и он сконфуженно промямлил:
— Рядовой Ядренко! — и, словно боясь, что лейтенант не расслышал, добавил уже погромче: — Ядренко моя фамилия… Вы только ничего не подумайте… Я не со злого умысла… Я…
— В этот раз я ничего не слышал, рядовой Ядренко. И не надо больше так при мне рассуждать, иначе ваш сон — как вас там зарезали — сбудется… Ну так что, видал ты моего братца, рядовой Ядренко?
— Так точно, товарищ лейтенант, брат ваш, он к медикам побег.
У местных медиков было накурено до чёртиков.
— О, Василий, — сквозь дым разглядел вошедших седой лысоватый майор. — Заходи, гостем будешь!
Он небрежно подвинул с края скамьи молоденького, уже порядком захмелевшего младшего лейтенанта, усадил Кошлякова, подставил ему алюминиевую кружку со спиртом.
— Чистый? — поинтересовался Василий.
— Не-а, — мотнул головой майор, — разведённый. Да ты пей, Кошляков, разведён по норме: сам знаешь — разную херню не пьём.
— А по какому случаю?… По какому случаю такой грандиозный банкет?
— А что, обязательно нужен случай или повод?… Да пьём мы просто за то, мой миленький лейтенант, что живы… Что — ПОКА! — живы!.. Пьём, между прочим, свои законные, нар-ко-мов-ски-е!..
Ладно, майор, не петушитесь! — усмехнулся Кошляков и, стукнувшись своей кружкой об его, залпом вылил спирт в рот, страдальчески крякнул, потянулся за закуской. — А где ж мой брательник? Разведка доложила, что к вам пошёл…
Майор молча пальцем ткнул в дальний угол помещения. Валентин, действительно, сидел там, в углу, на жёлтом сундуке, и, отгоняя рукой от глаз надоедливый табачный дым, что— то доказывал старшему лейтенанту из своей роты.
Василий благодарственно хлопнул по плечу майора, поднялся из-за стола и направился к брату. По пути услышал как тот декламировал:
Хоть стони, а хоть кричи,
Разметавшись на постели…
Я тебя испил до дна
И ушёл. На самом деле…
Валентин, увлечённый чтением своих «виршей», не сразу заметил Василия, а когда Василий положил руку на его погон, Валентин как-то заторможено поднял глаза, удивлённо спросил?
— Это ты, брательник? Тебе чего?
— Одевайся, разговор есть.
— Что, прямо сейчас одеваться и идти с тобой куда-то разговаривать? Или можно попозже?… Война ещё не окончилась — времени для разговоров у нас по самое горло!..
Вмешался старший лейтенант:
— Васька, будь человеком! Пусть он ещё одно стихотворение мне прочтёт, и тогда забирай его к едрени-фени!..
— Ах, чёрт с вами!.. Валька, читай свой стих, но только один…
Валентин согласно кивнул головой и начал:
Я пил вино
в кругу советских леди.
Хмельное пил,
торгов не говоря…
А женщин —
Боже! — как я их любил,
Как чистых ангелов, боготворя!
О наши милые
российские мадонны!..
Мы стукались
совсем не хрусталём…
И ждали,
когда «примется» хмельное,
И ждали,
когда песню запоём.
Потом меня
вы нежно целовали,
И я шутил:
девчата, мол, не надо…
А дома
открывала дверь жена,
«Не замечая»
на губах моих помаду…
Я пил вино
в кругу советских леди.
Хмельное пил,
тостов не говоря…
Но всё прошло,
и пыл мой улетел,
Как жёлтый лист
в начале ноября.
Валентин замолчал, а старший лейтенант, опрокинув в своё горло ещё одну порцию спирта, пьяно полез к Валентину целоваться.
— Валька, ты — гений!.. Люблю тебя!.. А ну, ещё… Как там: «Вы извините, перейду на Вы: ведь так о женщинах писал Тургенев…»