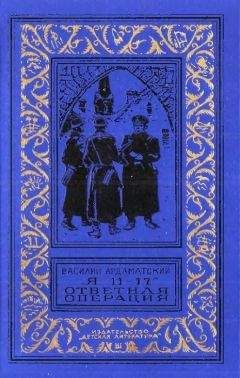Эдуард Арбенов - Берлинское кольцо
Слепой огонек, рядом с солнцем напоминающий скромного светляка, возникает в руках Грюнбаха и выхватывает на стене какую-то линию светло-красного цвета. Она настораживает: может быть, кровь. Тут должна быть кровь, всякая фашистская тайна связана с кровью. Но пятно оказалось всего-навсего восклицательным знаком после слова «Ферботен!», очень популярного в свое время в Германии слова «Запрещено!» При входе в подземелье, куда мы намеревались спуститься вслед за Грюнбахом, оно соединялось с другим, в данном случае совсем безобидным словом и означало: «Не курить!»
Почему не курить в окружении камня и железа? Ах, да — здесь печатались фунты стерлингов. Оскар Грюнбах хочет показать нам примечательное в своем роде место.
Последняя ступень в полумраке, а дальше вопреки логике — свет. Яркий пучок света, настоящего солнечного, льющегося с неба. Тяжелая фугаска разворотила перекрытие и обнажила подземный лабиринт. Грюнбах гасит свой фонарик и смущенно произносит:
— Я думал, здесь вечная тьма…
Так полагал и бригадефюрер Шелленберг, загоняя всю спецзону Ораниенбурга в преисподню, подальше от пытливого человеческого глаза. Какие-то годы тайна жила под слоем земли и бетона, и потребовался май 1945-го, чтобы сорвать тяжелую завесу. Впрочем, не вся завеса сорвана, многое скрыло время, и эта бомбежка в последние недели войны, превратившая святое святых гиммлеровской службы безопасности в пепел, а пепел, как известно, безмолвен.
Хотя Оскар Грюнбах намерен оживить пепел, во всяком случае, заставить его говорить. Он ведет нас по подземелью, теперь уже открытому для неба и света, и показывает на железо и камни. Опять на железо и камни, которых так много наверху, и чтобы на них взглянуть еще раз, не обязательно спускаться вниз, в преисподню.
Какие-то смутные очертания печатного цеха, что-то напоминающее машины для оттисков. Только напоминающее. Это могли быть и другие машины — все настолько исковеркано, что назначение отдельных деталей можно установить лишь после технической экспертизы. Но Грюнбах говорит о печатных станках, пусть будет по-его. Он здесь находился, когда машины функционировали.
— Нет, нет, — поясняет Грюнбах. — Я не входил в этот подвал тогда. Никто из нас не входил. Вы читали на стене: «Раухен ферботен»? Запрещалось не только курить, но и приближаться к тамбуру… Однако мы знали многое… — Оскар Грюнбах поднимает свои не в меру разросшиеся седые брови и дает понять этим, что тайну от живых не скроешь, даже в Ораниенбурге. — Мы знали почти все… Машины гудели день и ночь…
Он сам с интересом рассматривает остатки трансмиссий, маховики, решетки. Мысль его работает, восстанавливает прошлое, а может, творит, пытается представить себе невиденное. Иными казались подземные тайники, когда их угадывали лишь по звуку работающих машин, по надписям при входе «Ферботен!» И Грюнбах несколько разочарован. Во всяком случае, загадочности на его лице нет и глаза смотрят равнодушно. Серые, выцвеченные временем и страданиями глаза. Надо было все пройти не как сейчас, с тростью в руке. Не под спокойным голубым небом — сегодня удивительное для берлинской осени небо, — а под грозовым военным.
Мы поднимаемся по ступенькам вверх, на землю. Грюнбах виновато улыбается: ничего особенного не удалось показать нам, ничего способного удивить и тем более поразить. Но было, было, так надо понять нашего спутника. Он делает серьезное лицо — мы все-таки на пепелище Ораниенбурга, секретнейшей базы Главного управления имперской безопасности. И пусть ничего не понятно по осколкам и развалинам. Это не миф. Здесь существовал Ораниенбург, не случайно стерли его с лица земли.
— Я увлекся, — говорит Грюнбах и взглядом просит прощения. Он имеет право на него. Человек с номером на руке, номером узника спецлагеря, может, даже должен, наверное, забывать окружающее, рассказывая о прошлом. — Вас не интересуют камни, вас интересует он…
Грюнбах способен в разговоре исключать себя, свои чувства, хотя мы этого и не требуем от него. Мы будем слушать подробнейшие рассказы об Ораниенбурге, будем смотреть камни, будем лазать по подземельям. Будем делать все, что считает нужным этот словоохотливый старик, но если невольно мы чем-то проявляем торопливость, подчеркиваем свою цель, то пусть он извинит нас. Действительно, мы думаем о нем, о том человеке, что ходил здесь когда-то.
Старик снова впереди. Пальто его, правда, уже не развевается по ветру — спокойно идет Грюнбах, и трость его твердо упирается в камни и жухлую по осени траву. Иногда он задерживается на скоплении железного лома, в аморфном видит какие-то ему одному понятные четкие линии и говорит:
— Здесь была литография… А здесь — граверная…
Около граверной он останавливается надолго, на минуту или две, размышляет. Выдает нам частицу своих мыслей:
— А знаете, ведь я — гравер, настоящий гравер… Если хотите, первоклассный. И я работал здесь… Работал на Гиммлера.
Плечи его чуть опадают: и без того сутулый, он в эту минуту кажется сгорбленным. Облик выдает состояние старика, словно Грюнбах иллюстрирует свои чувства позой и жестом. Что-то театральное есть в его внешности, но старик не играет, он просто не умеет скрывать родившееся внутри…
— У человека не всегда хватает мужества умереть по собственной воле, — говорит он грустно, с какой-то далекой болью в голосе. Должно быть, эта боль не сейчас пришла к Грюнбаху, а еще в дни заточения в Заксенхаузене. — Если бы все отказались служить коричневому богу, он был бы слабее и не совершил столько зла…
— Умереть не значит победить, — возразил один из нас — Гибель даже сотен тысяч была бы мало ощутима чудовищем в нацистском обличий.
— Да, конечно, — охотно согласился Грюнбах. — Это подсознательно понимал каждый из нас… И жил. И даже работал.
— И боролся.
— Кто мог… — после паузы и какого-то внутреннего анализа чужого довода произнес Грюнбах. Он-то лучше нас знал, кто боролся в лагере: член подпольной группы сопротивления видел борьбу собственными глазами и сам в ней участвовал. — Кто находил в себе силы и решимость, — уточнил он, снова подумав. — Ваш друг боролся. У него были силы…
Он назвал его нашим другом. Просто так, видимо, назвал, оценивая наш поиск, как долг дружбы. Грюнбах даже не предполагал, что мы узнали о существовании «друга» лишь после войны, спустя два десятилетия, и никогда, никогда не видели его в лицо. Живого, во всяком случае. Но пусть это друг, товарищ. Случайно брошенное слово заставило как-то по-новому взглянуть на нашу цель и даже испытать мгновенную радость. Друг — хорошо сказано!
— Хотя дни его были сочтены, — неторопливо шагая меж камней, продолжал Грюнбах, — он не складывал оружия… Я имею в виду душевное состояние человека…
Грюнбах умел говорить обобщая, отвлекаясь, сравнивая. Такая уж у него была манера выражать мысль. И мы побоялись, что он сейчас отойдет от сказанного и станет философствовать по поводу недолговечности всего существующего. Но на сей раз Грюнбах не попытался подняться в облака, остался на грешной земле и стал неторопливо припоминать подробности.
— Я увидел его первый раз у этого барака… То есть у барака, который стоял здесь… Видите блоки? Прессованный щебень. Из Заксенхаузена людей водили сюда на работу. Даже приговоренных к смерти…
Грюнбах говорил об этом со спокойной деловитостью. Время не в состоянии оживить чувства — лагерь все подавил, все стер, далее протест против самого понятия смерть. Умирали каждый день, уход из жизни был явлением обычным для всех, кто здесь находился. И для Грюнбаха тоже.
— Как я узнал, что он приговорен к смерти, — предполагая наш вопрос, стал объяснять Грюнбах. — Мне показал на него Юзеф Скачинский, член подпольной группы. Показал и шепнул: «Он будет умерщвлен…» — Трость уперлась в землю. Грюнбах положил обе руки на резной набалдашник, что означало остановку в пути и пространный разговор. Оскар Грюнбах внимательно посмотрел на нас, желая, видимо, уяснить, поняли ли мы его последнюю фразу. Не убедился в этом и повторил: — Умерщвлен! Вы различаете понятия: казнен и умерщвлен? У нас в Заксенхаузене не расстреливали. Убивали просто, если замечали в глазах заключенного недовольство. Умерщвление же производилось по списку, независимо от настроения человека. В список входили и приговоренные к смерти судом. Вы подумали о газовых камерах! Нет, человек тут был материалом для эксперимента, как и все, что входило в Ораниенбург. Ну, об этом потом. Ваш друг еще не знал, что его ожидает. Не знал даже о вынесении смертного приговора военно-полевым судом. Ходил на работу вместе со всеми. И вот его поручила мне наша подпольная группа. Откуда поступили сведения о судьбе новичка, для меня было тайной, а тайны мы не пытались разгадывать: в лагере второй обладатель секрета исключался… Еще мне сказали, что он должен жить, несмотря ни на что. Почему жить, во имя какой задачи, тоже умолчали. До поры до времени, конечно, потом стало известно. Перед самым концом, когда друга вашего повели к доктору Баумкеттеру. Вы слышали что-нибудь о Баумкеттере? Это тоже одна из тайн Ораниенбурга, вернее группы «Технических вспомогательных средств», которая занималась не только фальшивыми деньгами и подложными документами…