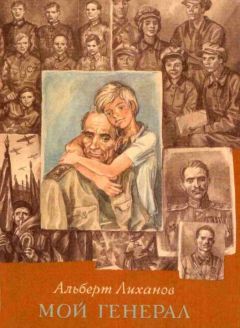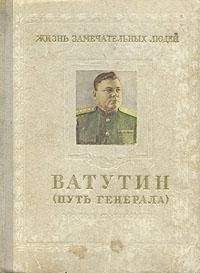Ольга Перовская - Джан — глаза героя
Минут через пять Джан уже без сбруйки пробежал из общежития через большую террасу в цветник. Он катался и ползал по траве, растирая брюхо, спину и восторженно дрыгая всеми четырьмя лапами. Потом, поупражнявшись в гигантских прыжках через клумбы, опрометью кинулся к маленькой опрятной кухне.
Красивая женщина с короной бронзовых кос над неподвижным, как у многих слепых, лицом, видимо, поджидала четвероногого визитера. Миска со всякой снедью была приготовлена для него в углу.
Пока Джан, расставив могучие лапы, лакал похлебку и, словно сухарики, разгрызал кости, женщина разговаривала с ним и поглаживала его по спине.
Забежала еще одна слепая. Она прислушалась и спросила:
— Это кто? Джан, что ли, так чавкает? А где ж председатель наш, Джан?
Даже толстая кошка поиграла с Джановым хвостом и потерлась о его ляжку, хотя пес буркнул в миску не отрываясь, от чего вся похлебка пошла пузырями.
По всему было заметно, что Джана здесь любят, балуют и радуются его приходу.
Не успел он доесть, как из цветника послышались голоса.
— Джан, ко мне!..
Пес немедленно бросил угощение и через минуту ткнул захлюпанным носом хозяйскую ладонь.
— Ну, доволен? Набегался, поразмялся? Э-э-э, да ты брат не теряешься, всю морду умазал в каше. Убери, убери голову, испортишь мне костюм…
Инвалиды в очках окружили собаку:
— Подзаправился, Джанчик?
— И чего мне «теряться», скажи, Джан-душа! Я же не чужой! — Человек погладил собаку левой рукой, правый рукав у него был пустой. У другого — вместо кистей протезы в черных перчатках… А народ все коренастый, плечистый, в самом цвету. И несмотря на следы страшных ран и увечий, держались они по-военному прямо, шутили громко и весело.
— Вы за отпуск, Семен Гаврилович, основательно двинулись и по музыке и по чтению…
— Ноты разбираете вовсе свободно? Большое упорство у вас…
— А наш «Паганини» совсем погано читает…
Один из слепых держал ноты с былыми выпуклыми, точно вдавленными булавочной головкой, значками:
— А без нот вы ту песню не помните?
— Постараюсь припомнить. Давайте баян! Мы частенько певали ее с нашим командиром эскадрильи.
Семен Гаврилович опустился в цветнике на скамейку и приладил на коленке гармонь.
— Песня эта старинная, ей больше ста лет. А вы все слова знаете, Леня?
Звучный, необыкновенного тембра баритон запел под аккомпанемент баяна:
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно:
В роковом его просторе
Много бед погребено.
Смело, братья! Ветром полный
Парус мой направил я:
Полетит на скользки волны
Быстрокрылая ладья!
Густой бас и высокий свежий тенорок красиво оттеняли напев. Обе женщины вышли из кухни и слушали неожиданный концерт…
Вдруг в мелодию ворвался странный грубый голос: Джан поднял голову и громко завыл, причитая и бормоча что-то по-собачьи дрожащими губами.
Певцы рассмеялись:
— Публика протестует, — сказал Семен Гаврилович, отставляя гармонь. — Вот и дома он также срывает у меня занятия. Ну, друзья, увидимся, значит, на концерте Леонида… А теперь мы должны еще в контору поспеть, а потом в цех, повидаться с товарищами.
И вот они опять переходят пути, минуют полосатые шлагбаумы и шагают вдоль берега речки.
Маловато удалось побегать в саду общежития! Ну куда, куда бы еще потратить столько сил и здоровья?
Семен Гаврилович прекрасно понимает досаду собаки. На половине пути он говорит: «стоп!» Кладет на траву газету и палку и снимает Джанову сбрую.
— Беги, Джан! Побегай, покупайся и скорей возвращайся ко мне, — по привычке серьезно, как с человеком, говорит Семен Гаврилович.
Восторженный лай слышится уже где-то вдали. Закудахтали куры, откликнулся глупый и очень хозяйственный голос петуха, слышен гусиный гогот… Пронзительный голос кричит:
— Ку-у-да! Ку-да тя лешай нясет! Розка! Розка!..
Где-то мекнула козочка.
Джан, наверное, носится по берегу, купается, встряхивается, заигрывает с чьей-то козой, услужливо высаживает из воды гусака…
Какая сейчас должно быть вокруг благодать! Помнится, три года назад, лес зеленой стеною стоял там, за извилиной речки. В стороне была топкая низинка с мохнатыми кочками, изумрудной осокою. До войны это было совсем пустынное место. А теперь — куры и гуси, коза, женский голос… Наверное, дачники-новеселы расселились до самого леса…
Семен Гаврилович положил руки на трость, оперся о них подбородком. Живые картинки родного Подмосковья возникали одна за другой в его памяти.
Вдруг крики, визг ребятишек и блеяние козы заставили его вскочить на ноги. Он свистнул собаке.
Тяжелое дыхание и мокрый нос незамедлительно доложили о прибытии Джана.
Шерсть на нем после купания сохранила прохладу и влажность, но с языка упали на руку хозяина горячие капли.
— Ишь, как ты уморился! Где же ты так гонялся? Это что же, на тебя, что ли, кричали? А?… Смотри мне, прохвостина эдакий!
… Тропинка обогнула небольшой прудик и сбежала по крутой вымощенной улочке к новому двухэтажному дому за дощатой оградой.
Внутри ограды был цветник с кустами пионов и красных лилий. Люди, сидевшие на скамеечках и гулявшие по дорожкам, приветствовали появление человека с собакой:
— А, председатель! Здорово, Семен Гаврилович!
Семен Гаврилович кивал направо и налево и весело откликался.
— К директору, Джан, — повторял он вполголоса.
Поводырь вел его между людьми по лестнице на второй этаж. У дверей кабинета, на ковровой дорожке, валялся, видимо, оброненный кем-то из слепых, сверток в газете.
Джан обнюхал его и доложил о замеченных непорядках настойчивым басом:
— Уберу, уберу! Не галди ты, пожалуйста! Тоже мне — «Управдом», — успокоила Джана уборщица.
Она подняла с пола сверток. Семен Гаврилович с собакой вошли в кабинет.
Возле окна в удобном мягком кресле расположился за письменным столом человек.
Вытянутая несгибающаяся нога, недостаток пальцев на правой кисти и хорошо подобранный, но все же неподвижный, стеклянный, глаз наводили на мысль, что и он побывал на войне. Но больше ничего не напоминало в нем бойца.
Повернувшись располневшим телом к подоконнику, на котором стоял сифон с шипучей водою, он нацеживал и с жадностью выпивал стакан за стаканом.
При появлении сухой, подтянутой фигуры он вытер мокрые губы и попытался приподняться. Семен Гаврилович приветствовал его по-военному, взял стул и сел подобранно и прямо.
— Ну и жарища! Это же пытка какая-то… — простонал, отдуваясь, толстяк.
— Разве жарко?! — удивился прошедший под солнцем уже не один километр Семен Гаврилович. — А я как-то и не замечаю…
— Признаться, не ждал я вас… В эдакое-то пекло…
— А как же иначе?!. Ведь мы же договорились к половине девятого?!.
Часы над столом ударили половину.
Два разных человека, два разных характера, в каждом слове, в каждом поступке по-разному проявляли себя.
Предстояла скучнейшая работа: все учесть, рассчитать по-хозяйски, наметить что и как сэкономить в большом сложном производстве… И как ни отвиливал «один характер», прикидывая все «на глазок», «приблизительно», «второй характер» упорно все проверял и уточнял.
Постепенно втянувшись в работу, собеседники забыли, что в комнате находился еще и третий, и тоже весьма ярковыраженный характер.
Джан сначала сидел, как в вагоне, привалившись спиною к хозяйским коленям. Он чутко вслушивался в разговор и, уловив в репликах Семена Гавриловича сдержанное неодобрение, присоединял к его замечаниям выразительное: «Аррррр!..»
— Да подь ты к дьяволу!.. Взорвался наконец измученный жарою и постоянными поправками в подсчетах толстяк. — То-о-же мне, вмешивается! Терпеть не могу, когда в комнате всякая дрянь!..
— А без него я не попал бы сюда, — немедленно возразил «другой характер». — Я за свою жизнь, с тех лет, что был пастушонком, приучился уважать собак за их помощь и службу. А сейчас и тем более… Вот проверьте: кто не жалеет, не бережет и не понимает животных — тот ненастоящий человек, убогий сердцем, внутренне грубый, одервенелый. Такой человек не способен любить ни природу, ни Родину, ни людей… И в семье часто бывает жесток и бездушен…
— Хм… А вот я, например,… Вы, быть может, хотите сказать, что нет правил без исключения?
— Я хочу сказать именно то, что и сказал. И это мое глубочайшее убеждение, — сухо отозвался капитан. — Давайте-ка лучше продолжим наши подсчеты.
Снова цифры и щелканье косточек.
На тяжелый вздох в директорском кресле, каждый раз отзывается вздох на прохладном полу. Толстяк принимает это как личную обиду и едва не взрывается снова.
Но не только жара донимает собаку. Вспоминаются псу крик и ругань давешней хозяйки козы… Почему она так на него раскричалась?!. Женский крик, брань, повышенный тон Джан не терпит со щенячьих дней своей жизни. Это так всегда было обидно и незаслуженно!.. Много горя, побоев и унижений перенес он щенком. А за что?!.