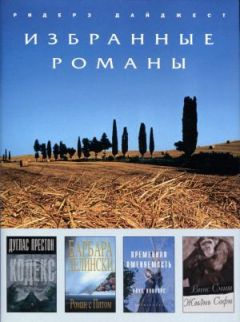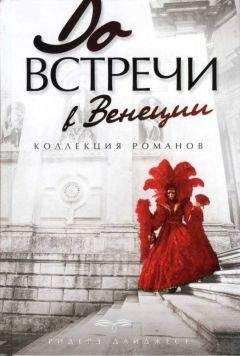Роберт Дейли - Сильные духом (в сокращении)
Он инстинктивно потянул на себя штурвал и сбросил газ. «Мустанг» задрожал, двигатель чуть не заглох. Чтобы избежать столкновения, противнику пришлось нырнуть под него.
Прибавив газу, Дейви спикировал. Теперь преимущество было на его стороне — он летел позади и немного выше немца, который, пытаясь уйти, заложил вираж. Но Дейви настигал его и уже поймал «фокке-вульф» в кружок прицела. Оставалось нажать на гашетку, и пулеметы, по три на каждом крыле, доделают остальное.
Он не смог. В кабине «фоккера» — он это прекрасно видел — сидел такой же юнец, как он сам. Возможно, этот молодой немец, который сейчас изо всех сил пытается спастись, тоже мечтает вернуться в университет, встретиться со своей девушкой, жениться. Несмотря на все его маневры, Дейви по-прежнему держал два черных креста в рамке прицела.
И тут он разглядел лицо немца, искаженное страхом и отчаянием. «Ты должен это сделать, — приказал себе Дейви. — Именно этому тебя учили. Идет война. Или он, или ты».
Он надавил на спуск. Пулеметы застрочили, посылая в сторону противника сотни пуль. У Дейви щипало в глазах, он часто моргал, но все же увидел, что пули попали в цель.
Вражеский самолет развалился на куски.
— Молодцом, Дейви, — услышал он голос командира.
Вновь поднявшись на заданную высоту, он обнаружил, что остался в одиночестве. Нигде ни самолета. Дейви закрыл глаза, и перед ним возникло лицо погибшего немца. Он не имел понятия, где находится и куда девалась его эскадрилья.
У него болели руки и плечи. Управлять «мустангом» в бою на скорости шестьсот пятьдесят километров в час — нелегкая работа. Он чувствовал физическую, умственную и эмоциональную усталость. От дома его отделяли семь или восемь тысяч километров, и он был совершенно один.
Покинув воздушное пространство Германии, он летел над Голландией. В одиночестве он был легкой добычей для противника, но, к счастью, вскоре внизу показался залив Зейдер-Зе, а следовательно, больше нечего было опасаться. Ужасно хотелось есть, и, достав бутерброд, он жевал его, глядя на стрелку указателя уровня топлива. Нажав на кнопку связи со спасательной службой, попросил дать ему курс. После этого ему оставалось только смотреть на унылые воды Северного моря.
Увидев впереди землю, Дейви выпустил шасси. Наконец показалась вышка аэродрома, полоса была свободна. У него практически не оставалось горючего, и он сразу пошел на посадку. Вырулив на стоянку, Дейви заглушил двигатель. Машина затихла, словно заключенная в ней яростная сила вдруг разом иссякла. И его собственная ярость, если можно так назвать то чувство, что он испытывал в бою, тоже прошла.
Вечером в офицерском клубе Гэннону пришлось угощать всех пивом. Все требовали рассказа о том, как он сбил свой первый самолет. И он рассказывал, усердно изображая воодушевление. Про лицо немца он ничего не говорил, хотя оно все время стояло у него перед глазами.
Ночью Дейви опять вспомнил лицо погибшего немецкого летчика и почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Он лежал на койке и плакал, стараясь, чтобы никто не услышал.
Сражавшиеся в небе над Европой истребители и бомбардировщики не затрагивали непосредственно жизнь Андре Фавера, пастора церкви Ле-Линьона. Ле-Линьон был слишком незначителен, чтобы заинтересовать воюющие стороны. Однако и у Фавера была своя роль в этой войне, диаметрально противоположная той, которую играли люди в военной форме.
Уже несколько лет дороги Франции были запружены беженцами, по большей части иностранцами, в основном евреями, людьми без документов и без денег, пытавшимися спрятаться от гестапо и прислужников гестапо — французской полиции. Многие из них приходили в Ле-Линьон. В первые месяцы войны их было несколько десятков, затем — сотни, затем — тысячи. Они спрашивали, как пройти к дому пастора, а отыскав его, убеждались, что ходившие среди беженцев слухи — чистая правда. Пастор Фавер никому не отказывал. Всех, кто стучался к нему в дверь, он был готов накормить и устроить на ночлег. А потом находил для каждого безопасное пристанище. Беженцев снабжали фальшивыми документами, и некоторые жили в здешних краях уже по несколько лет, а других переправляли через границу в Швейцарию.
К началу 1944 года в окрестностях Ле-Линьона едва ли нашелся бы дом, где не укрывали еврейскую семью. У Фавера были жена и четверо детей, и он прекрасно сознавал, что грозит ему, а возможно, и его близким, если власти прознают про его деятельность.
Ле-Линьон расположен на обширном плато Центрального массива. В те годы в Ле-Линьоне было всего пять-шесть улочек. В центре находилась рыночная площадь с десятком магазинов и лавок, а также несколькими маленькими гостиницами — в мирные времена в городок заезжали туристы.
Население составляло около девятисот человек, и еще столько же проживало на остальной территории коммуны. Более чем девяносто процентов местных жителей были протестантами, то есть Ле-Линьон представлял собой аномалию — протестантский городок в католической стране, один из немногих подобных в Центральном массиве.
Религиозные войны, массовые убийства, казни и — в более спокойные годы — притеснения протестантов продолжались, с краткими перерывами, несколько столетий. Поэтому жители Ле-Линьона хорошо понимали, что значит быть гонимым. Они прислушивались к словам своего пастора — а Фавер служил здесь пастором с 1932 года — и чаще всего выполняли его просьбы. Хотя в Ле-Линьоне был избранный мэр, высшим авторитетом и в городе, и во всей коммуне оставался пастор. И в наступившие времена предательств, убийств, пыток и лагерей смерти Фавер проповедовал ненасилие, пассивное сопротивление и любовь к ближнему. «Никакое правительство не вправе заставлять человека убивать, — говорил он. — Каждый обязан найти способ бороться с нацизмом, должен искать его ежедневно, в соответствии с тем, чему нас учит Библия».
Имя Фавера получило известность во всех религиозных общинах Франции и во всех благотворительных организациях — тех, что еще продолжали существовать. Некоторые из них помогали ему, присылая с курьерами из Швейцарии деньги. Его энергии хватило бы на двоих, а доброты, по словам тех, кто его знал, — и на двадцать человек.
На следующий день в Ле-Линьоне ждали приезда министра вишистского правительства в сопровождении ряда высокопоставленных лиц. Для пастора Фавера это создавало особую проблему, из-за которой он долго не мог уснуть.
Министр намеревался выступить с речью перед молодежью Ле-Линьона. Фавер знал, с какими речами обычно обращается к подрастающему поколению министр Дезэ. Будет разглагольствовать о патриотизме и повиновении властям, про долг перед страной, и в особенности перед главой государства маршалом Петэном. Станет призывать мальчишек и девчонок вступать в ряды «Друзей Франции» и участвовать в финансируемых правительством молодежных лагерях, созданных по образу и подобию гитлерюгенда.
По мнению Фавера, эта речь была одной из двух главных целей визита. Второй была встреча с пастором, ведь Дезэ наверняка знал, поскольку это знали все, как часто и как решительно Фавер с церковной кафедры клеймил подобную обработку молодежи. Благодаря его проповедям парни и девушки в Ле-Линьоне не спешили вступать в профашистские организации.
После выступления перед молодежью министр собирался присутствовать на церковной службе, а затем на устроенном в его честь приеме.
Фавер еще раньше разделил город на ячейки и в каждой назначил старшего. Одним он позвонил, с другими встретился лично, быстрым шагом обходя дом за домом, а одному человеку передал собственноручно написанный текст.
Последняя часть его плана была связана с девушкой, которая жила у него в доме. Ее звали Рашель Вайс, хотя сейчас по документам у нее было другое имя — Сильви Бонэр. Этой беженке вместе с официанткой одной из гостиниц предстояло обслуживать гостей за завтраком. Фавер объяснил ей, какое задание он хочет ей поручить. Потом спросил, готова ли она его выполнить.
— Да, — ответила девушка.
Рашель Вайс родилась в Берлине, в семье еврейского торговца мануфактурой. В восемь лет ее отдали в английскую школу-интернат. Отец сам отвез ее в Англию.
После этого Рашель виделась с родителями только на Рождество и летом, когда приезжала в Берлин на каникулы. Она была еще слишком маленькой, чтобы понимать, что означает для ее семьи приход к власти нацистов. В конце концов ее отец решил свернуть свое дело и эмигрировать в Америку. В ожидании виз семья перебралась в Париж, и в последние годы учебы Рашель навещала родителей уже там. К тому времени Рашель говорила по-английски с изысканным аристократическим акцентом. Природа не обделила ее умом, зато ей очень не хватало родительской ласки.
В сентябре 1939 года, когда началась война, Рашель, которой тогда было тринадцать, отдыхала с одноклассницей во Французских Альпах. Она поспешила в Париж. Ее семья пустилась в бега. Они нигде подолгу не задерживались, все еще надеясь успеть получить американские визы, прежде чем их схватят. Существовало, однако, две проблемы. Во-первых — деньги. У господина Вайса оставались кое-какие сбережения, но он не имел к ним доступа. Во-вторых — Рашель. Отец хотел найти такое место, где она могла бы учиться и где ей ничего бы не угрожало.