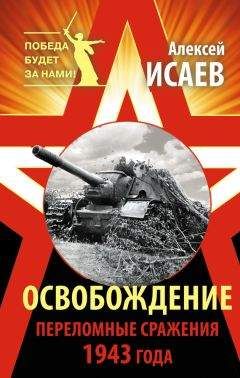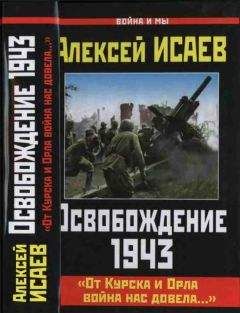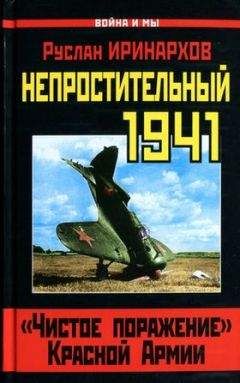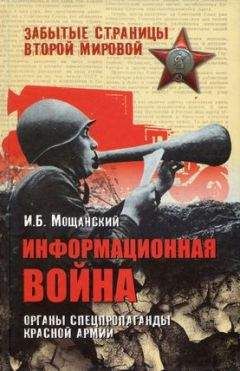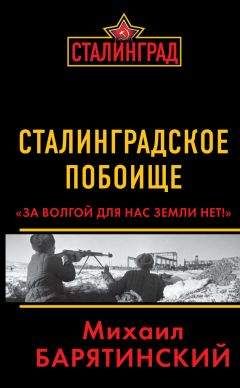Артем Ивановский - Утерянные победы Красной Армии
Но, с другой стороны, немецкие войска завтра утром могут перейти в наступление, а у нас ряд важнейших мероприятий еще не завершен. И это может серьезно осложнить борьбу с опытным и сильным врагом. Директива, которую в тот момент передавал Генеральный штаб в округа, могла запоздать»[1].
Директива действительно запоздала. Немецкие войска начали выдвижение на исходные позиции у границы еще с восьми часов вечера 21 июня. В полосе Прибалтийского особого военного округа сосредотачивалась группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, в составе которой находились 16-я и 18-я армии и 4-я танковая группа. Всего войска северной немецкой группировки насчитывали 29 дивизий, имевших на вооружении 680 танков, 850 боевых самолетов, около 8,5 тысяч орудий и минометов.
Войска ПрибОВО состояли из 8-й, 11-й, 27-й армий и 5-го воздушно-десантного корпуса— всего 25 дивизий, 1500 танков, 1814 боевых самолетов, около 7,5 тысячи орудий и минометов.
Поскольку главные силы округа были придвинуты к границе, немецкое командование разработало оптимальный план боевых действий. В соответствии с этим планом предусматривалось посредством глубоких, стремительных прорывов подвижных танково-механизированных группировок предотвратить возможность отхода приграничных русских армий на рубежи, пригодные для организации прочной, долговременной обороны. Во исполнение поставленной задачи фельдмаршал Лееб выдвинул в первый эшелон лучшие части прорыва — 41-й и 56-й моторизованные корпуса, которыми командовали генералы Рейнгардт и Манштейн. Оба еще молодыми офицерами прошли школу крупнейшего специалиста по маневренной танковой войне Гейнца Гудериана и с полным правом считались лучшими в деле организации глубоких наступательных операций. Их соседом справа был еще один воспитанник «танкового Гейнца» — командир 3-й танковой группы генерал Гот. Совместно с 9-й армией группы «Центр» ему предстояло вбить танковый клин в стык советских Северо-Западного и Западного фронтов, чтобы на второй день наступления овладеть Вильнюсом.
Что же касается советских планов ведения боевых действий, то маршал A.M. Василевский в своих воспоминаниях приводил следующие соображения: «План предусматривал, что военные действия начнутся с отражения Ударов нападающего врага; что удары эти сразу же разыграются в виде крупных воздушных сражений, с попыток противника обезвредить наши аэродромы, ослабить войсковые, и особенно танковые, группировки, подорвать тыловые войсковые объекты, нанести ущерб железнодорожным станциям и прифронтовым крупным городам. С нашей стороны предусматривалась необходимость силами всей авиации сорвать попытки врага завоевать господство в воздухе и в свою очередь нанести по нему решительные удары с воздуха. Одновременно ожидалось нападение на наши границы наземных войск с крупными танковыми группировками, во время которого наши стрелковые войска и укрепленные районы приграничных военных округов совместно с пограничными войсками обязаны будут сдержать первый натиск, а механизированные корпуса, опирающиеся на противотанковые рубежи, своими контрударами вместе со стрелковыми войсками должны будут ликвидировать вклинившиеся в нашу оборону группировки и создать благоприятные условия для перехода советских войск в решительное наступление. К началу вражеского наступления предусматривался выход на территорию приграничных округов войск, подаваемых из глубины СССР. Предполагалось также, что наши войска вступят в войну во всех случаях полностью изготовившимися и в составе предусмотренных планом группировок, что отмобилизирование и сосредоточение войск будет произведено заблаговременно»[2]. Тем не менее последующий ход боев в приграничной полосе показал, что ни один командующий фронтом, армией, корпусом оказался не готов действовать в соответствии с этим тщательно выверенным планом.
Прежде всего несколько слов об авиации. Аэродромы в западных округах, как известно, строились в непосредственной близости от границы. Это 20, 30, а иногда и 10–15 километров. Не совсем понятно, каким образом при такой дислокации командование рассчитывало нанести по противнику решительные удары с воздуха «в свою очередь». Удар воздушного противника в подобной ситуации был первым и последним. Так оно и произошло: большая часть советской авиации на приграничных аэродромах оказалась уничтоженной на земле, не успев подняться в воздух.
Еще одним серьезным уязвимым местом изложенного выше плана была связь. Предусматривался подрыв противником наших тыловых войсковых объектов и прежде всего — узлов и средств связи. Г.К. Жуков констатировал: «Чуть позднее нам стало известно, что перед рассветом 22 июня во всех западных приграничных округах была нарушена проводная связь с войсками и штабы округов и армий не имели возможности быстро передавать свои распоряжения. Заброшенная немцами на нашу территорию агентура и диверсионные группы разрушали проволочную связь, убивали делегатов связи. Радиосредствами, как я уже говорил, значительная часть войск приграничных округов не была обеспечена»[3]. Почему не была обеспечена, хотя планом все это предусматривалось, сказать очень трудно.
Кроме того, предусматривалось еще, что наши войска вступят в войну во всех случаях полностью изготовившимися, что их отмобилизование и сосредоточение будет произведено заблаговременно. И все же, по свидетельству Г.К. Жукова: «Поднятые по боевой тревоге стрелковые части, входящие в первый эшелон прикрытия, вступали в бой с ходу, не успев занять подготовленных позиций»[4]. Это только некоторые, взятые «навскидку» несоответствия запланированного с действительным.
Таким образом, утром 22 июня войска Прибалтийского округа вступили в войну в заведомо невыгодных условиях. В первые же часы была нарушена связь штабов всех Уровней с воинскими частями. Соответственно, оказалось потеряно управление войсками. На приграничных аэродромах была уничтожена или повреждена большая часть наличной авиации. Поэтому весь первый день войны немецкие самолеты непрерывно ходили по головам наших наземных войск, бомбя и штурмуя занимаемые ими позиции.
Ударные силы немцев перешли в наступление на шауляйском, каунасском и вильнюсском направлениях. 41-й и 56-й мотокорпуса ударили в стык между 125-й и 90-й советскими стрелковыми дивизиями в районе Тауроге-Рай — сейняй.
Но, несмотря на отмеченное Г.К. Жуковым явное запоздание директивы о приведении войск в боевую готовность, командир 125-й стрелковой дивизии генерал-майор П.П. Богабрун успел развернуть свою часть в соответствии с планом прикрытия госграницы. Его солдаты оказали немцам ожесточенное сопротивление. Рейнгардт оставил пехоту штурмовать русские позиции, введя танки в пробитую в стыке брешь. Успешно развивали прорыв и танки Манштейна.
На вильнюсском направлении успели развернуться только несколько батальонов 5-й, 33-й и 188-й стрелковых дивизий 11-й армии генерал-лейтенанта В.И. Морозова. Танки Гота быстро смяли их, стремясь к исходу дня овладеть ключевым пунктом Алитус, где находились стратегические мосты через Неман.
В своих воспоминаниях генерал Гот писал, что в целом войска противника оказались застигнутыми врасплох: «Наш прорыв удался благодаря тому, что пограничные позиции противника либо оборонялись очень слабо, либо совсем не были прикрыты. Многочисленные полевые укрепления были недостаточно обеспечены гарнизонами или же не имели их вовсе»[5]. Таким образом, к концу дня 22 июня обстановка была следующей: 41-й мотокорпус, сломив сопротивление 125-й стрелковой дивизии и разгромив вступившую с ним в бой с ходу 48-ю стрелковую дивизию генерал-майора П.В. Богданова, переправился у населенного пункта Арёгала через реку Дубисса, где ему достался ценный трофей — два неповрежденных моста. Даже Рейнгардт развивал наступление на Шауляй. Справа так же быстро продвигался корпус Манштейна. Танки Гота благополучно достигли Алитуса. Здесь им пришлось принять встречный бой с советской 5-й танковой дивизией. В ее составе помимо Т-26 и БТ-7 находились новейшие Т-34, но их превосходство не удалось в полной мере использовать ввиду отсутствия поддержки с воздуха. Решающее влияние на исход этого боя оказала немецкая авиация. Ведя непрерывное преследование отступающего противника, танки Гота с ходу захватили мосты и форсировали Неман.
Тем временем командующий Северо-Западным фронтом генерал-полковник Ф.И. Кузнецов и Военный Совет фронта занимались изучением обстановки. Так как наиболее угрожающее положение создалось на шауляйском направлении, где корпус Рейнгардта прорвался дальше всех прочих немецких частей, командующий решил фланговыми ударами 3-го и 12-го механизированных корпусов «срезать» танковый клин врага. Кроме того, он отдал приказ развернуть на подступах к Шауляю 9-ю подвижную артиллерийско-противотанковую бригаду полковника Н.И. Полянского. В ее составе находились 250 орудий калибром 76 и 85 миллиметров. В качестве поддержки бригаде была придана 202-я мехдивизия полковника В.К. Горбачева. На остальных направлениях предполагалось сдерживать противника силами стрелковых частей.