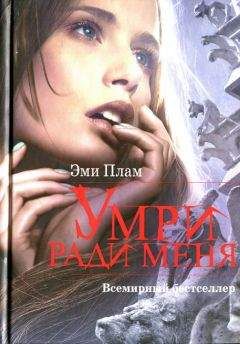Захар Прилепин - Рассказы
«Придут домой и… всё у них поправится сразу», — подумал я лирично, сам чуть возбуждаясь от вида этих двух древними запахами пахнущих зверей.
Откуда-то я знал, что Примат наделён богатой мужскою страстью, больше меры. Семени в нём было не меньше, чем желанья пролить чужих кровей. Пролил одно, вылил другое, всё в порядке, всё на местах.
Первого человека убил тоже Примат.
Целую неделю он тосковал: кровь не шла к нему навстречу. Он жадно оглядывал чеченские пейзажи, бурные развалины, пустые и мрачные дома, каждую минуту с крепкой надеждой ожидая выстрела. Никто не стрелял в него, Примат был безрадостен и раздражён в отряде едва не на всех. Кроме, конечно, Гнома, во время общенья с которым лицо Примата теплело и обретало ясные черты.
Пацаны наши чуть ли не молились, чтоб отряд миновала беда, а Примат всерьёз бесился:
— На войну приехать и войны не увидеть?
— Ты хочешь в гробу лежать? — спрашивали его.
— Какая хер разниц, где лежать, — отвечал Примат брезгливо.
Постоянно стреляли на недалёких от нас улицах, каждый день убивали кого-то из соседних спецназовских отрядов, иногда в дурной и нелепой перестрелке выкашивало чуть не по отделению пьяных «срочников». Одни мы колесили по Грозному, как заговорённые: наша команда занималась в основном сопровождением, изредка — зачистками.
Примат часто требовал свернуть на соседнюю улицу, где громыхало и упрямо отхаркивалось железо, когда мы в драном козелке катались по городу, совершая не до конца ясные приказы — сначала в одно место добраться, а потом в иной медвежий угол отвести то ли приказ, то ли пакет, то ли ящик коньяка от одного, скажем, майора, другому, к примеру, полкану.
— По кой хер мы туда поедем? — отвечал я с переднего сиденья.
— А если там русских пацанов крошат? — кривил губы Примат.
— Никого там не крошат, — отвечал я и, помолчав, добавлял: — Вызовут — поедем.
Нас, конечно, не вызывали.
Но, в третий день третьей недели, на утренней зачистке на окраинах города, мы, наконец, взяли, забравшись на чердак пятиэтажки, троих, безоружных, молодых, нервных. Была наводка, что с чердака иногда стреляют по ближайшей комендатуре.
— А чего тут спим? — спросил у них командир.
— Дом разбомбили. Ночевать негде, — ответил один из.
Здесь командир и рванул свитерок на одном, и синяя отметина, набиваемая прикладом на плече, сразу пояснила многое.
Но оружия на чердаке мы не нашли.
— Паспорта есть? — спросили у них.
— Сгорели в пожаре, когда бомбили, да! — стояли чеченцы на своём.
— Ну, в комендатуре разберутся, — кивнул командир.
— Разведите их подальше, чтоб друг другу не сказали ничего, — добавил он, — А то сговорятся об ответах.
Наши камуфлированные пацаны разбрелись по соседним подъездам, работали там: иногда даже на улице слышно было, как слетают с петель двери — их выбивали, когда никто не отзывался. Пленных развели по сторонам, у одного из них остались стоять Примат с Гномом.
На всякий случай я отвёл троих сослуживцев к двум рядкам сараюшек у дома, чтоб посматривали: а то неровен час, придёт кто незванный, или вылезет из этих сараек, чумазый и меткий.
Возвращался, закуривая, обратно, и меня как прокололо: вдруг вспомнил дрогнувшие тяжело глаза Примата, когда он взял своего пленного за шиворот и, сказав «Пошли», отвёл его подозрительно далеко от дома, где шла зачистка, к небольшому пустырю, который в последние времена стал помойкой.
Я надбавил шагу и, когда выглянул из-за сараев, увидел Примата, стоящего ко мне спиною, и Гнома, смотревшего мне в лицо с нехорошей улыбкой.
— Беги! — негромко, но внятно сказал пленному Примат. — А то расстреляют. А я скажу, что ты сбежал. Беги!
— Стой! — заорал я, едва не задохнувшись от ужаса.
Крик мой и сорвал чеченца с места, — он, подпрыгнув, помчался по пустырю, сразу скувыркнулся, зацепился за проволоку, поднялся, сделал ещё несколько шагов и получил отличную пулю в затылок.
Примат обернулся ко мне. В его руке был пистолет.
Я молчал. Говорить уже было нечего.
Через минуту примчал командир и с ним несколько наших костоломов.
— Что случилось? — спросил он, глядя на пацанов — нет ли на ком драных ранений, крови и прочих признаков смерти.
— При попытке к бегству… — начал Примат.
— Отставить, — сказал командир и секунду смотрел Примату в глаза.
— Одно слово: примат, — с трудом выдавил он из себя и сплюнул.
Я вспомнил, как мы, весенней влажной ночью, собирались в Чечню. Получали оружие, цепляли подствольники, склеивали рожки изолентой, уминали рюкзаки, подтягивали разгрузки, много курили и хохотали.
Жена Примата пришла то ли в четыре ночи, то ли в пять утра и стояла посередь коридора с чёрными глазами.
Завидев её, Гном пропал без вести в раздевалке: сидел там, тихий и даже немножко подавленный.
Примат подошёл к жене, они молча смотрели друг на друга.
Проходя мимо них, даже самые буйные пацаны отчего-то замолкали.
Я тоже прошёл молча, женщина увидела меня и кивнула; неожиданно я заметил, что она беременна, на малом сроке, но уже уверенно и всерьёз — под нож точно не ляжет.
Лицо Примата было спокойным и далёким, словно он уже пересёк на борту половину чернозёмной Руси и завис над горами, выглядывая добычу. Но потом он вдруг встал на одно колено и послушал вспухший живот. Не знаю, что он там услышал, но я очень это запомнил: коридор, полный вооружённых людей, чёрное железо и чёрный мат, а посередь всего, под жёлтой лампой, стоит белый человек, ухо к скрытому плоду прижав.
«Примат, да? Воистину примат?» — спросил я себя, подойдя к трупу, у которого словно выхватили маленькими зубками кусок затылка.
Никто не ответил мне на вопрос.
Под свой командировачный, «дембель» мы устроили небольшую пьянку. В самый разгар веселья вырубили в казармах свет, и Гном всех рассмешил, заверещав тонким, и на удивление искренним голосом:
— Ослеп! Я ослеп!
— Отец, что с тобой? — подхватил шутку Примат.
— Сынок, это ты? — отозвался Гном, — Вынеси меня на свет, сынок. От хохота этих хамов, к последнему солнцу.
Тут как раз свет загорелся и все увидели, как Примат несёт Гнома на руках.
Потом эту историю мы вспоминали невесело.
За два дня до вылета домой, Примат и Гном, в числе небольшой группы отправились куда-то в предгорную глушь, забрать с блок-поста невесть каким образом повязанного полевого командира. Добирались на вертолёте, в компании ещё с парой спецназовцев, то ли нижнетагильских, то верхнеуфалейских.
Полевого командира, с небрежно, путём применения и сапога, и приклада, разбитым лицом, загрузил лично Примат; одновременно, чуть затягивая игру, стояли возле вертолёта, направив в разные сторону стволы те самые, не помню с какого города, спецназовцы. Им нравилось красоваться: они были уверены, что их никто не подстрелит, такое бывает на исходе командировки. Гном тоже пересыпал зубками неподалёку.
Тут и положили из кустарника двумя одиночными и верхнеуфалейев, и нижнетагильцев — обоих, короче, снесло их наземь, разом и накрепко. Гном тоже зарылся в траву, что твой зверёк, и когда пошла плотная пальба, на окрик Примата не отозвался. Сам Примат к тому времени уже в нутро веролёта залез, и вертушка лопастями буйно размахивала, в надежде поскорее нахер взлететь отсюда.
Выпрыгнув на белый свет, Примат, потный, без сферы, не пригибаясь, прицельно пострелял в нужном направлении, потом подхватил раненых, сразу двоих, на плечи, на одно да на второе, и отнёс их к полевому командиру, который, заслышав стрельбу, засуетился связанными ногами и часто заморгал слипшимися в крови тяжёлыми ресницами: ровно как не умеющая взлететь бабочка крыльями.
Следом Примат сбегал за Гномом, вытащил его из травы и на руках перенёс в вертушку.
На Гноме не было ни царапины. Пока вертушка взлетала, он, зажмурившись, раздумывал, куда именно его убили, но ни одна часть тела не отозвалась рваной болью. Тогда Гном раскрыл радостный рот, чтобы сообщить об этом Примату.
Примат сидел напротив, в чёрной луже, молча, и у него не было глаза. Потом уже выяснилось, что вторая пуля вошла ему в ногу, а третья угодила ровно в подмышку, там, где броник не защищал белого тела его.
Ещё россыпь пуль угодила в броник, и несколько органов Примата, должно быть, лопнули от жутких ударов, но органы уже никто не рассматривал: вполне хватило того, что Примат какое-то время бегал лишённый глаза, с горячим куском свинца в голове.
То ли нижнетагильцы, то ли верхнеуфалейцы выжили, оба, а Гнома представили к награде.
Мы возвращались домой вместе с огромным цинком Примата.
Жена встретила гроб с яростным лицом и ударила о крышку руками так, что Примат внутри наверняка на мгновенье открыл оставшийся глаз, но ничего так и не понял.