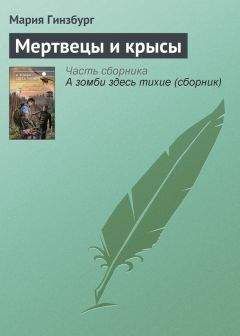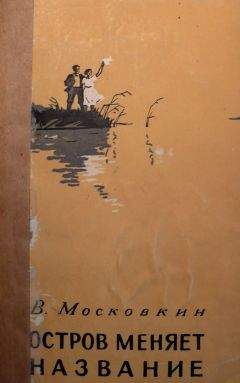Виктор Московкин - Ремесленники. Дорога в длинный день. Не говори, что любишь: Повести
— Да и ничего! Такой уж он мотало-ботало, несуразный… Еще когда в молодцах ходил, мотался из деревни в город — почти-то все у нас раньше на заработки в город шли. Ну вот, он ни там не прибился и от крестьянства отбился, ни то ни се вышло из него. Всю-то жизнь… Смеялись на него: чудил и все невпопад, и только. А как не смеяться? Была привычка, увидит у кого что-нибудь, что ему понравится, и скажет: хорошая у тебя эта вещь. И не раз скажет, и не два, а человек не поймет, к чему это он. Раз мой-то Василий, — престольный у нас был, ильин день, — вышел на улицу в сапогах с блестящими калошами, модно тогда было в праздники в таких калошах. Илюха ему и толкует: «Хорошие у тебя калоши». А мой ему: «Да ничего, справные». Василью-то как-то даже приятно стало: заметили. Илюха снова: «Хорошие у тебя калоши». Так-то раза три. Мой Василий взбеленился: «Да что ты все об одном? Слышал же я». — «Слышал, а в понятье не вошел. — Это ему Илюха-то. — Вот у горцев есть такое правило: понравится ему вещь и похвалит он — хозяин обязан подарить ее похвалившему человеку». — «Во-на-а! — подивился Василий. — Выходит, я должен подарить тебе свои калоши, раз ты их хвалишь?» — «Только так, — Илюха ему сказывает. — И после этого становятся они дружками». — «Ну, прежде, ты не горец, — ответил Василий, разумом он не обижен был. — Не горец ты, а таких дружков в семи верстах я видел…»
Деревенская жизнь бедна на события, каждый случай, вызвавший пересуды, порой не забывается годами. Ну а Фаина Васильевна наскучалась по свежему человеку, не могла не выговориться. Мать хорошо понимала ее и слушала со вниманием.
— Будто бы и все, посмеялись люди, когда узнали, что меж ими произошло, — неторопливо продолжала хозяйка. — Оно и так: дураков не сеют, они сами родятся. Но нет, молодка, все не выходят из Илюхиной головы эти блестящие калоши. Дело-то шло к колхозам, о раскулачивании стали поговаривать, то в одной деревне слышим, то в другой — кого-то раскулачили. И появляется Илюха опять перед Васильем: «Все, достукался, чертов кулак, завтра к тебе придут. То-то ты в другую деревню укрыться хотел, да сообщил я куда надо. Не пофорсишь больше в блестящих калошах». Василий поначалу поверил: Илюха в сельсовете вроде посыльного был, с чего бы ему выдумывать? А с другой стороны, что у нас? Лошадь с жеребенком, корова, ну, овцы еще — как у многих, кто работал, не ленился. С голоду не пухли. А про другую деревню упомянул, то правда: еще когда строиться хотели, Василий выбрал вот эту деревню, Шаброво, больно она на веселом месте стоит: река под боком, заливные луга. Красиво тут… А вышло — сбрехнул Илюха, как тать злой. Не совсем, конечно, бумагу он на нас писал в район, сельсовет запрашивали оттуда: проверьте, мол, надо, так действуйте. Сельсоветские мужики ответили: не надо, сроду не был Василий Савельев кулаком…
Алеша принес из кухни вскипевший самовар, вопросительно посмотрел на хозяйку.
— Куда ставить?
— Аль не из деревни; не знаешь, куда ставят?
— Я не говорил, что из деревни, — сказал он.
Когда он обходил скамейку, чтобы поставить самовар на дальний край стола, Фаина Васильевна коснулась его головы корявыми от работы пальцами, потрепала волосы.
— Чего мне говорить, в городе, поди-ко, из чайников пьют, а тебе самовар не в новинку.
— Незадолго до войны перебрались, — пояснила мать.
— И не толкуй. Сказала когда — госпоставки не ко времени, — поняла. Откуда городской знать об этом?
Хозяйка поднялась, прошла в переднюю. Слышно было, как хлопнули створки комода. Принесла она жестяную коробочку с чаем, видимо с бережно хранимым для особых случаев. Мать с каким-то мучительным смущением быстро взглянула на нее, но опять промолчала.
— Удивляешься, топленого молока не ставлю? Как же, в деревне — и чай без молока? Забрали у меня корову… Ну, не совсем, отдадут.
— Как же это вышло? — Мать невольно посмотрела на печку, откуда свешивались ребячьи головы.
— Этим хватает, соседи приносят, — успокоила ее Фаина Васильевна. — А вышло по-глупому, сама виновата, знай языку время и место. Он ведь, язык-то, и поит, и кормит, и по миру водит. — Фаина Васильевна повернулась к девочке, которая стояла, прижавшись к теплой печке, сказала ей: — Ты уж, Сонюшка, почайпьешь с ребятами, не то взревут: Соньку посадила, а нас… — Девочка молчаливо кивнула, и она продолжала: — Нынче время-то какое! Налетел тут полномочный, закрутил, как вихрь… Обстановка требует, не чувствуете этой обстановки, молока мало сдаете… И пошел, и пошел. Какое молоко, отелы только начинаются! А потом ребятишки в каждом дому. Будь тут мужики, рассудительно объяснили бы ему— нагоним, мол, по весне и лету, выполним норму, с лихвой даже, а мы, бабы, галдим, ничего понять невозможно. Видим, злим его, и больше ничего от нас нету…
Хозяйка вдруг смешно заохала, всплеснула руками и побежала на кухню. Принесла она оттуда глиняную плошку, доверху насыпанную кусочками вяленой свеклы.
— Пил ли чай-то с такими гостинцами? — весело обратилась она к Алеше.
— С цикорием пил. Его в горшке напарят, потом сушат. Сладкий!
— Цикорий у нас не растет, нету. И сахару нету. Пей со свеклой. Так вот, — обратилась опять к матери. — Встряла я, говорю полномочному: «Что, гражданин хороший, видно, после войны конец света наступит. Кто работать-то потом станет? Им, нынешним ребятишкам, расти надо, их тоже кормить надо». Вот тут и пошло, и пошло. Фамилия? Фамилия в деревне известная. Достает он тогда бумажку, посмотрел в нее, почмокал губами. «Ага, — говорит, — тут ты на заметке…» А я все на него смотрю, и удивление меня берет: «Без малого год война идет, а он с лица нисколько не спал, румяный такой, тугощекий». Он мне что-то такое говорит, а я все об одном: «Кого эта проклятущая война как вальком прокатывает, ты-то как ухитрился от этого валька уползти?» И ничего больше в голову нейдет. Когда чуть поопомнилась, стала соображать, что он меня в чем-то нешуточном обвиняет. «Вражеские слова! — кричит. — Саботаж!.. Вот, — говорит и трясет бумажкой, — посмотрите, у нее даже минимум трудодней еле-еле выполнен, когда другие отдают все силы, понимают обстановку…» Тут уж я опять не вытерпела: «Позволь, — говорю, — товарищ дорогой, взгляни- ка, сколько моя дочь выработала». — «Дочь, — отвечает, — это иное дело, каждый должен свой вклад вносить». Чувствую, не понимаем друг друга: дочка-то чуть свет — на работе, а мне ребят еще надо обиходить. И молоко-то он мне приплел, что лишку не сдала. «А корова, — говорит, — у нее удойная…»
Фаина Васильевна глянула на притомившегося Алешу, посоветовала:
— Лез бы ты на печку к ребятам, пока мы тут с твоей матерью все дела обделаем. Дорогу тебе еще обратную идти. Подреми…
Алеша улыбнулся краешком губ. На теплую печку он был бы не против, а пожелание «подреми» смешило: ребята, притихшие с приходом чужих людей, освоились и сейчас устроили шумную возню. Улыбка не прошла незамеченной.
— Чего ухмыляешься? — спросила Фаина Васильевна. — Печка у нас большая, и на тебя хватит.
— Что же дальше-то? — спросила мать. Чутье подсказывало ей, прерывать рассказ хозяйки — значит обидеть ее, а ей хотелось посоветоваться с Фаиной Васильевной, в какие дома можно зайти для обмена.
— Не надоела, так слушай…
— Ну почему — надоела? Дело житейское, понятное мне.
— А вот что дальше… Как упомянул, что корова у меня удойная, тут я совсем хорошо соображать стала: и бумажка про меня, и корова удойная. Глянула я на Илюху, он рядом с полномочным стоял. «Ах ты, — думаю, — ботало-мотало, и тут ты нас, Савельевых, вниманием не оставил. Я, когда тебе светлые калоши отдала, думала, отвалишься от нас, как сытая пиявка, а ты вон что!» А калоши, как похоронила Василия, отдала, много ли он носил, даже подкладка красная не запачкалась.
Полномочный придумал мне наказание — отобрать корову в общественное стадо, все, мол, молоко до капельки теперь пойдет государству. Председательша наша Маруся Савельева возмутилась, говорит ему: «Это уж вы слишком, товарищ полномочный, нельзя этого делать». Так он и на нее накинулся: «Вы, — говорит, — родственные интересы соблюдаете, вы покрываете саботажников, знаете, чем это пахнет? — И объявляет: — Свести корову с ее двора и отправить в район». Так бы, наверно, и сделал, но уж тут все бабы за меня горой. Кричат: «Не позволим, не имеете права! Обжаловать будем, а пока пусть ее Майка на нашей ферме стоит, приглядим за ней сами, вы там ее испортите. И председателя нашего не трожь, что с того, что она Савельева, у нас полдеревни Савельевых, и никакая ей Фаина не родственница». В сельсовете Сашенька работает, умненькая девочка, помогла мне обжалование написать, посоветовала и Ване в армию черкнуть, пусть, мол, там командование отпишет кому надо. А вчера вот секретарь приезжал, мы ему все и выложили. Он лицом даже потемнел, когда услышал, что тут полномочный творил. Сказал, что несправедливость будет исправлена, сейчас, мол, он не может приказать отвести корову домой, верней, не хочет: полномочный взял, пусть полномочный сам с извинением и вернет. А он распорядится. Так что я теперь уж не боюсь, вернут мне Майку. Вот Ванечкино ответное письмо никак не разумею, пишет: не зачеркивай строчек…