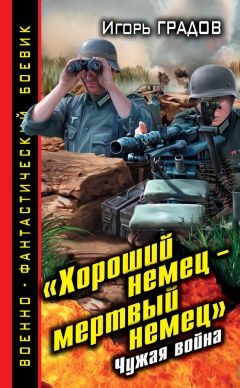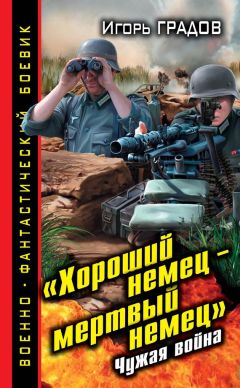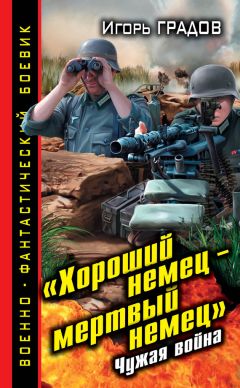Юрий Щеглов - Святые горы
Продукция Лещенко, впрочем, почти не отличалась от фольклора. К тому же репутация у него была подмочена. Рассказывали, что он содержал ресторан в столице Румынии. А это совсем дурно — ресторан при немцах. От полузабытого съедобного слова возле лица начинали бродить кухонные теплые запахи, которые сладко кружили голову.
Вертинский, конечно, иной человек, чем Лещенко, ни в какое сравнение с ним не идет. Те, кто помнил Вертинского по царским временам, утверждали, что он сам сочиняет стихи и музыку. Талантливый, культурный поэт и композитор.
Так, подмывая стену родительской враждебности, песни Вертинского просачивались в еще захламленные войной дворы, на грязные темные лестничные клетки и даже в плотно набитые реэвакуированными квартиры.
«Я тоскую по родине, по родной стороне своей, — слышалось за стеной. — Я в далеком походе сейчас, в незнакомой стране. Здесь идут проливные дожди, их мелодии с детства знакомы мне. Дорогая, любимая, жди, не отдай свое сердце другому». И опять берущее за сердце — «Я тоскую по родине…»
Хотя мы не тосковали по родине, песня неотступно крутилась внутри каждого из нас, волновала, мучила, доводя до слез в минуты высшего душевного напряжения.
Я часто вспоминаю город под весенней, еще не налившейся желтым соком луной. Осеребренный кусочек густо-сапфирового неба. Вдали беловатый, остро изломанный контур развалин, которые глыбятся и теснятся в непроглядности улицы. Порывы ветра пропитаны свежим, теплым запахом стаявших снегов.
Скамейка у парадного полна ребят, неумело тренькает гитара, плывут серые облака махорочного дыма, и вспыхивают розовым подбородки. Рядом со мной сидит малознакомая девочка, и я страшусь шевельнуться, потому что плечо ее касается моего, и мне почему-то стыдно, но расстаться с новым для себя ощущением я пока не могу.
«Я ужасно боюсь золотистого плена ваших медно-змеиных волос…» — гнусаво выводит, тщательно выговаривая слова, Сашка Сверчков. Девочка попалась толстая, неповоротливая, коротко, под мальчишку, стриженная, но с прозрачным профилем камеи, красивыми, неподвижными и пристальными, как у породистой симменталки, глазами, и я ухожу домой последним, со смутным тревожным чувством в груди.
Песни про гейш и Ирану, про последний ужин и опустевшие пляжи непостижимым образом вплетались в наше послевоенное, далеко не изысканное существование, вовсе не противореча ему, а дополняя его, оттеняя и делая более острым и более сладостно-горьким. Вертинский, конечно, не являлся ни знаком эпохи, ни знамением времени, но он стал для меня как бы привкусом рано наступившей, обворованной войной юности. Удивительным оказывалось и следующее. По вечерам мы обычно пели вперемежку с Вертинским бодрые праздничные или суровые — военные — песни, и все они тоже не противоречили друг другу и тоже непостижимым образом дополняли друг друга, создавая особое, размягченное, чуть плаксивое состояние, которое, однако, колебалось от безудержных взрывов радости до меланхолии поздних посиделок у дверей парадного.
Думая сейчас о том отдаленном периоде жизни, которая катилась по своим рельсам, я начинаю весьма отчетливо понимать, что испытывали разные люди во время революции, когда посреди роскошных гостиных в стиле fine de siecle возникали как из-под земли, как deus ex machina, кожаные тужурки и матросские бушлаты. И те, кто пытался накинуть цепочку на дверь, и те, кто срывал эти цепочки, не поражались встрече, они дополняли друг друга и не могли обойтись друг без друга.
Противоречия объединяли их крепче любого единства.
Приезд Вертинского взломал привычное течение жизни. Хотя афиш в городе, естественно, не расклеивали, о его гастролях слух пополз заблаговременно. За месяц, пожалуй. Я как раз подал документы в университет. Вертинский, однако, задержался, в Гаграх — что ли, и принесла его нелегкая лишь в начале августа, к самым экзаменам.
Нежарким голубым утром, когда брусчатка на улице Ленина поблескивала под восходящим солнцем, будто натертая мастикой, когда спелые темно-зеленые листья еще не потеряли ночной аромат прохлады, когда город на несколько мгновений застыл в плоском картинном покое, перед тем как очнуться, я увидел его вблизи гостиницы «Театральная», что напротив оперного театра.
Он стоял, опираясь на гибкую коричневую трость, и смотрел на россыпь пленных немцев, перекидывавших из рук в руки — по цепочке — кирпич в кузов грузовика. Вертинский смотрел на них неотрывно и даже шагнул к краю тротуара, чтобы густо заросшие ветви каштана не мешали ему. Он был высок ростом и — не по-гвардейски, не натужно, не по-скалозубовски — прям и свободно развернут в плечах. Светло-серый костюм обтекал его фигуру, придавая ей легкость, стремительность и энергию, хотя двигался он, я бы сказал, с ленцой, неторопливо.
Я моментально догадался, что это он. А кто же еще? Иностранец? Иностранцев мы в нашем городе не встречали. Облик его поражал. Он, облик, никак не подходил к городскому ландшафту, изуродованному развалинами; он, облик, скорее подходил к мягкой — изумительной — погоде, в которой еще не ощущалось предвестия осени, но уже наступило успокоение и достоинство зрелости лета. Таких людей я после войны не видал, только до и издали, на премьерах, с балкона второго яруса, в бинокль. Мама от своей голодной рабфаковской молодости унаследовала страстную любовь к театру и часто брала меня туда. Вертинский по-чаплински покрутил тростью и двинулся прямо ко мне. Он скользнул по обтрепанной фигуре своими маленькими глазами, которые показались мне отчего-то синими. Не то грассируя, не то картавя, чуть запинаясь и экая, он спросил:
— Молодой человек, собственно говоря, какая это нынче улица?
В фразе попалось единственное «эр». Но элегантное грассирование сразу встрочилось в память.
— Короленко, — ответил я.
— Ах, Короленко, — повторил он, нажимая на «эр», которое одновременно как бы и отсутствовало, — Короленко. — И он двинулся прогулочным шагом к университету.
Я поспешил за ним, хотя неумолимо подкатывало к восьми и меня ждала девушка Валя в сквере напротив университета заниматься. На углу, где оканчивалась решетка бывшего Педагогического музея, он оглянулся и собрался свернуть к бульвару. Тогда я замедлил погоню, делая вид, что собираюсь перевязать шнурок на ботинке.
Вертинский, подняв трость и медленно водя ею у стены, читал, шевеля губами, название на табличке, прикрепленной к ограде бывшей Александровской гимназии. Потом он направился вниз, к Бессарабскому рынку, и фигура его на мгновение растворилась в прозрачных летучих тенях каштанов.
Я не мог отдать себе отчет, почему и зачем я преследую его, ведь мне нужно в противоположную сторону. Но я упрямо и помимо своей воли пошел за ним вначале на рынок, а оттуда по главной улице города в бывший Купеческий парк и через «чертов мост», переброшенный над пропастью между двумя кручами, — в Дворцовый. На мосту Вертинский задержался недолго, опершись на ажурные перила и всматриваясь в акварельную даль, фиолетовую, размытую первыми лучами солнца. Низко лежащий желтый песчаный берег, уже кое-где покрытый телами азартных купальщиков, но пока по-утреннему пустынный и нетронутый, зеленые, причудливо — сверху — очерченные пятна кустарника и травы приковывали его взор.
Он стоял и неизвестно о чем думал, то ли о горечи эмиграции, то ли о надеждах, связанных с возвращением, — о чем? — а у меня в голове бесконечно, как балерина на одной ножке, кружилась невеселая — не под стать погоде — песенка: «И мне сегодня за кулисы прислал король, прислал король влюбленно белые нарциссы и…»
И черт его знает что. На папиросной странице последнее слово в строке плохо пропечаталось — вроде «лакфиоль». Что за таинственное «лакфиоль», я не задумывался и выпевал его скороговоркой, стесняясь самого себя, — в рифму, и ладно.
Потом акварельная даль отпустила Вертинского. Он обогнул стадион «Динамо» и сошел по ступенькам на Садовую улицу. По ней прогулялся дважды, задумчиво. Рядом с бледно-голубым дворцом, который некогда принадлежал вдовствующей императрице Марии Федоровне, он купил стакан газированной воды — кадык над тугим воротником несколько раз двинулся вверх и вниз; затем он пересек улицу и скрылся не то в дверях магазина, не то в парадном дома с цифрами «1930 год» на фронтоне. Подобные дома строили для итээр — инженерно-технических работников.
Я взглянул на часы. Стрелка подтянулась к десяти. Я побежал за трамваем, догнал его и вскочил на подножку.
В университет, в университет, в университет.
2
Не думаю, что одного Вертинского нужно винить в моем оглушительном провале, но и он, безусловно, сыграл свою роль.
Я — малый впечатлительный, застенчивый. Как привяжется что-нибудь — мелодия, фраза или образ, — месяцами отвязаться не в силах. По ночам просыпаюсь, вздрагиваю, тело горячеет, покрывается испариной, если на ум приходит что-то неприятное, какая-нибудь неловкость.