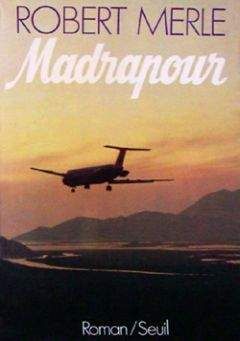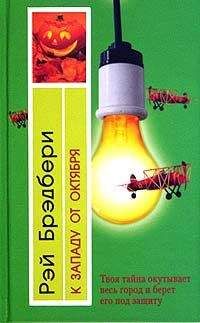Сергей Бетев - А фронт был далеко
Отправлялся эшелон с первого пути. Двери всех вагонов были широко распахнуты. В одном вагоне пели, в другом — играла гармошка…
И вдруг я увидел Ленку. Она стояла в окружении солдат, опершись на доску, укрепленную поперек двери вагона. К ней наперебой обращались со всех сторон. И она, оборачиваясь то к одному, то к другому, отвечала всем. Увидела на перроне знакомых, крикнула что-то и помахала рукой.
А я перестал ходить на станцию.
Ребята постарше меня много разговаривали про знакомых девок. Чаще рассказы их были такими, которые и волновали и казались бесстыдными. Но все равно говорили с увлечением, страстно, подробно, хотя всегда где-нибудь на стороне, по секрету, чтобы не услышали взрослые. Говорили и про Ленку. Говорили при мне, не зная, что я люблю ее! И клялись, что все это правда. А я не хотел, не мог этому верить.
Я слышал о каждой Ленкиной поездке, знал время, когда она уезжала и возвращалась, терзался ревностью и болью, которые порой доводили меня до непонятного бешенства и желания самому оскорбить ее при всех.
Но встречал ее после возвращения из Свердловска, видел ее глаза, чистые и спокойные, и снова был готов дать по носу любому, кто скажет о ней грязно.
«Не поедет она больше…» — успокаивал себя каждый раз. Но проходила неделя, другая, и Ленка опять уезжала.
«Что же она делает?! Ведь знает сама про разговоры!» — беспомощно досадовал я про себя.
Ленка действительно все знала. Но она легко, с насмешливым искристым взглядом, с озорным форсом, который больше всего злил купавинских сплетниц, бросала им открытый вызов.
И если видела какую-нибудь из них на перроне, уезжая, не упускала случая поддразнить, кричала весело:
— Ждите с победой!
18
Чем заметнее подчеркивали купавинские бабы и девки свое отношение к Ленке, тем смелее отвечала она.
— Съездила? — спрашивала какая-нибудь из ревнивых, которую парень обошел вниманием.
— Съездила.
— Хорошо?
— Еще поеду.
— Скоро?
— А вот танцы с твоим Алешкой отведу и поеду, — дразнила Ленка.
И нечем было оскорбить ее больше. Замолкала ревнивица, не сумев отомстить.
Все реже и реже задевали Ленку: извела себя молва собственной злостью, захлебнулась. А Ленка сама дивилась тому, что сделала ее смелость. И не склоняла больше головы перед людскими наговорами, не робела перед стерегущими взглядами и ушами. Если стоял воинский, не обходила его дальними путями.
— Девушка, какая станция? — спрашивали из вагонов.
— Читайте, мальчики, — показывала Ленка на вокзал. — Купавина.
— Красивая!..
— Очень.
— Да не станция — ты, — объясняли ей.
— У нас все такие, — улыбалась Ленка и, приветливо помахав солдатам, отворачивала в дежурку.
А завистницы шипели:
— Ишь, как стригет… Навострилась.
Мне было радостно за Ленку, что она так ловко утирает носы станционным дурам. И тревожно: их много, она — одна.
Но и эта тревога прошла: Ленка ходила веселая.
Я уже не слушал никаких сплетен. Тем более в доме у нас случилась новость. Отец неожиданно объявил, что его переводят из рабочих в бригадиры на соседний околоток, что жить мы будем на казарме сто сорок девятого километра. Это за двадцать три километра от Купавиной. Казарма, стоит на перегоне. Живет там всего шесть семей. До ближайшего разъезда от нее четыре километра, до деревни — три.
Отказываться от перевода нельзя: приказ.
— За огородом ходить придется вам с Санькой, — говорил отец маме. — Будете приезжать. А вот со школой что делать, не знаю. В деревне там учат только до четырех классов. — А потом встряхнулся. — Собирайтесь, одним словом, остальное решим после.
И ушел на работу.
Тоскливо нам стало с мамой. Александра Григорьевна тоже пригорюнилась. Знали, что поделать ничего нельзя. Закон военного времени — не шутка, за опоздание на пятнадцать минут и то судили.
Мне было жалко расставаться с Купавиной. Жизнь на ней в последнее время интереснее стала: говорили, что будут возле нас строить заводы и город, потому что недалеко еще до войны нашли бокситовое месторождение, которого хватит на сто лет. И тот барачный поселок, что растет в лесу, — начало всему.
На сирени в саду уже присыхал цвет, и я решил сходить на наше болото.
Оно встретило меня знакомым предутренним безмолвием. Еще не проснувшееся, оно лежало под густым лохматым туманом.
Когда солнце угнало туман, я заметил, что болото стало меньше. Наверное, это из-за железнодорожной насыпи, что желтела за ним. Раньше за камышами виднелась далекая синяя полоска леса, и казалось, что болото и камыши тянутся на много километров.
По-прежнему заскрипела старая лягушиха, переполошив молодых, ширкнули в разные стороны водомеры, засуетились трясогузки. Вынырнули из-под воды навстречу солнцу луковки купавок, спеша открыть зеленые ставни и развернуть на воде свой цвет.
Я побрел на свой островок. Проходя мимо зеленых островов, брызгал на купавки водой, но не сорвал ни одной.
Моя березка совсем повзрослела. Она заметно раздала крону вширь, закрыв тенью почти весь островок. А самая макушка ее, вытянувшаяся еще на два вершка, немного склонилась. Словно задумалась березка.
Я лег на спину и стал смотреть в небо. Оно было чистое-чистое, без единого пятнышка.
И вдруг я услышал гул. Он все усиливался, пока не заполнил все вокруг. Казалось, доносился он с неба.
А болото притихло. Замолкли лягушки. Даже старая лягушиха ни разу не заворчала.
Я сел возле березки и огляделся.
На темно-зеленом стекле воды тихо светились желтые огни купавок. Они смотрели в небо широко открытыми лепестками, как будто тоже прислушивались.
А гул катился из леса, из-за железнодорожной насыпи. Там гремела стройка.
Что-то будет здесь? Какая жизнь начнется?
Наверное, и березка думала об этом.
Купавки, еще не тронутые нынешним летом, как напоказ желтели возле каждого плавучего листа, вызрели крупными, пышными. Но мне не хотелось рвать их. Не знаю почему, но я подумал, что Ленка уж не придет сюда.
А гул волнами накатывался со всех сторон. И маленькое болото с примолкшими лягушками прислушивалось к нему, словно боялось привлечь к себе внимание.
Я не пошел с болота домой, а отправился в лес. Вышел на высокий берег Каменушки перед самой загогулиной, в которой вздымалась в небо Каменная Пасть.
Груда камней на мысу против нее и песочный бережок казались совсем маленькими. «И сюда она не придет больше. Тут всегда купались только мальчишки да девчонки. А Ленка уже другая…»
Повернув к дому, подумал, что надо не забыть узнать у отца, есть ли на новом месте речка.
Через день мы уже приготовились к отъезду. Погрузили в крытый вагон, стоявший в тупике, все домашнее барахло, отгородив половину его для коровы. Ждали, когда нас прицепят к какому-нибудь поезду.
И тут Купавину потрясло известие: Ленку Заярову выбросили из поезда на ходу. Точно никто ничего не знал.
Только и можно было услышать:
— Доездилась!..
Рассказала нам про все опять же Варвара Ивановна Полозова, когда пришла вечером в наш вагон попрощаться.
Из ее рассказа я понял только самое главное.
Ленка ехала в Свердловск на тормозной площадке с солдатом. Дорогой он стал приставать к ней. Ленка не поддалась. И тогда, озверев, он столкнул ее с поезда посреди перегона.
Ленка сильно ушиблась, вернулась домой с кровоподтеками и ссадинами.
— С ней страшное творится, — сокрушалась Варвара Ивановна. — Дали бюллетень пока. Мария убивается: у Елены приступы нервные, и она твердит все время: «Жить не хочу! Видеть людей не могу!..»
Я слышал по голосу, видел по лицу, что Варвара Ивановна переживает за Ленку и нисколько не винит ее.
Как я был прав, что ни в какие сказки про Ленку не верил!
Не от боли билась сейчас в припадках Ленка, а от самого подлого людского оскорбления.
И никакой он не защитник Родины тот гад, который ехал с ней и поднял на нее руку.
Поздно вечером пришел отец. Я услышал, что завтра до полудня вагон наш прицепят к сборному поезду, которому на перегоне возле казармы сто сорок девятого километра дадут десятиминутную остановку для нашей разгрузки.
И понял: Ленку больше не увижу.
Всю ночь я не спал.
Жизнь снова раскололась на две половины: понятную и непонятную. «Неужели это опять какая-нибудь проклятая звезда?!»
Я не мог больше лежать в постели. Натянув в темноте штаны, тихонько откатил тяжелую дверь вагона и выскользнул на улицу.
Ночь была холодная. В небе поблескивали звезды, но у самого края земли едва приметной полоской уже занимался рассвет.
Я побежал к болоту.
Мокрая от росы трава хлестала меня по ногам, штаны вымокли выше колен и прилипли к телу. Зубы стучали от холода.