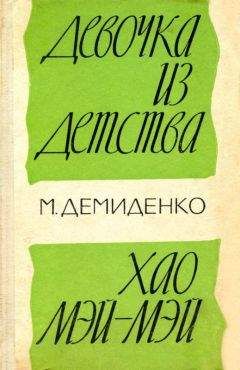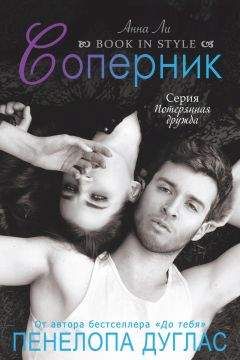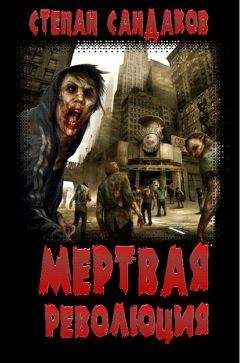Геннадий Воронин - На фронте затишье…
— Юра!..
Смыслов понимает меня с полуслова.
— А ну быстрее, быстрее, — поторапливает он долговязого. Но Кохов прибавляет шаг, обгоняет меня, на ходу вытаскивает пистолет из кармана!..
Я не знаю, что делать. Я не могу приказать ему. И не имею права его ослушаться…
— Стой! — командует Кохов.
Саперы и пленные останавливаются, но Юрка преграждает капитану дорогу.
— Уйди! Стрелять буду! — вскрикивает Кохов. Он отталкивает с тропинки Смыслова…
— Отойди!..
Это последнее, что я слышу. Золотистые сосны кренятся. Длинный лесной тоннель переворачивается набок. Переворачиваются и Кохов, и Юрка, и долговязый пленный. Земля становится ватной, рыхлой. Я словно проваливаюсь в бездонную яму…
…Очнувшись, не могу сразу вспомнить, что произошло. Где-то рядом стучат по наковальне звонкие молоточки. Нет, это стучит у меня в висках.
— Оживел, — произносит незнакомый надтреснутый голос. — Хлипкий. Сколько ему годков-то?
— Сколько бы не было… Тебе до этого дела нет. Отойди.
И опять так же скрипуче:
— В обморок свалился! Как Маша Дубровская.
«Кретин. У Маши фамилия Троекурова…»
— А ну отойди, говорю!..
Второй голос возбужденный, злой… Юркин голос…
Он наклоняется надо мной. Прикладывает к моему лбу горсть снега… Все тише стучат молоточки. Различаю лица саперов. Долговязый пленный стоит в сторонке… Все такой же надменный иронический взгляд. В ногах у него сидит рыжий с белым как снег лицом. Кохова рядом нет.
Сажусь на толстый жилистый корень, выпирающий из-под дерева.
— Ну как? — участливо спрашивает Юрка.
— Вроде ничего… Лучше…
— Это потому, что не спал три ночи, — говорит Юрка. — Посиди, отдохни. Мы пленного перевяжем.
Рыжий сидит, зажав левую руку чуть выше локтя, косится на нас исподлобья, ждет, что будет дальше.
— Показывай руку, гад, — обращается к нему Юрка, и тот сразу, будто отлично знает русский язык, начинает стаскивать комбинезон…
Пуля прошла через мякоть предплечья. Ничего страшного нет. Но крови много. Рана и сейчас продолжает кровоточить.
— Бинт есть у кого-нибудь? — спрашивает Смыслов.
Обшариваем карманы. Ни у кого из четверых нет индивидуального пакета, хотя мы обязаны, должны их иметь.
— У меня портянки новые. Вчера выдали. Поделюсь с фрицем, — предлагает сапер. — А то еще сдохнет, а нам отвечать.
— Давай.
Солдат садится на снег, снимает сапог. Портянка и в самом деле новенькая, чистая. Только сильно помята, да в середине виднеется серый отпечаток стопы.
Солдат вытаскивает перочинный ножик, делает на портянке надрез, захватывает кончики пальцами, собираясь оторвать ленту.
— Пожалуй, мало будет для паразита. Пошире надо.
Он снова чиркает ножиком, на этот раз подальше от края, и отрывает от портянки широкую полосу.
Смотрю, как сапер-разведчик обматывает руку пленного самодельным бинтом, и чувствую, почти физически ощущаю, как переполняет меня желание всадить в рыжего еще одну пулю. Мне нисколько его не жаль даже раненого, окровавленного. И Юрке, наверное, тоже не жалко. И саперам.
Но как люто их ненавидит Кохов. Еще сильнее, чем мы. Может быть, потому, что в Киеве у него осталась невеста.
А рыжий морщится, кривит свою скуластую рожу, заискивающе заглядывает саперу в глаза, что-то бормочет ему по-немецки.
Если бы он мне попался в бою, я с удовольствием выпустил бы ему в морду целую очередь. Прикончил бы. А вот сейчас не могу, не имею права поставить его к сосне и пристрелить как собаку. «Лежачего не бьют» — видно, недаром так говорится в пословице. А он сейчас все равно что лежачий. Безоружный… Пленный…
Коммунисты
Лина врывается в блиндаж вместе с ватным облаком холодного воздуха. Позабыв прикрыть дверь, она устало приваливается к угловому бревну, щурится, как-то странно, почти отрешенно глядит на пляшущий огонек лампы-гильзы.
В последние дни ее не узнать. От высокой аккуратной прически ничего не осталось. Волосы разлохматились, свисают сосульками, торчат в разные стороны. Щеки на обмороженных местах покрылись синеватыми пятнами.
— Ребята, помогите внести лейтенанта, — неожиданно произносит она умоляющим тоном.
Как по команде, один за другим выскакиваем из блиндажа. Рядом с верхней ступенькой, разбросав руки в стороны, лежит на плащ-палатке командир роты саперов. Перед ним на коленях пожилой незнакомый солдат в зашарпанной шинели с оторванным, болтающимся на одной пуговице хлястиком. Он что-то говорит Редину, а тот смотрит на него ничего не видящими, словно остекленевшими глазами.
— Ранило нашего товарища лейтенанта, — виновато произносит солдат. — Вместе мы шли. Только хотел он в окоп спуститься. И все… Меня не задело. А его — вот…
Вчетвером беремся за края плащ-палатки. Приподнимаем раненого. Он тихо, протяжно стонет. Стараясь не оступиться, не поскользнуться на обледеневших ступеньках, осторожно спускаемся вниз. Лина стоит у распахнутой двери. Ждет, когда мы сойдем, с каждым шагом предупреждает:
— Ровнее… Осторожнее… Тише…
Кладем лейтенанта на чью-то телогрейку. Он опять начинает стонать.
— Помогите с него шинель снять. Только осторожнее, — просит Лина, уже сбросившая с себя полушубок и приготовившая бинты.
Руки лейтенанта, полусогнутые в локтях, не разгибаются. С трудом снимаем с него шинель. Над левым карманом темно-зеленой шерстяной гимнастерки рядом с орденом Красного Знамени расплылось бурое пятно. Лина отстегивает ремень, приподнимает гимнастерку вверх — к лицу Редина. Вот она рана — крохотная темная точка чуть выше левого соска. Ее сразу и не заметить, если бы на белой коже вокруг не было красноватого венчика величиной со старинный медный пятак.
— Переверните его на бок. Может быть, вышла пуля, — тихо и торопливо говорит Лина.
На спину лейтенанта страшно смотреть. Пуля вышла около позвоночника в пояснице. Вокруг выходного отверстия все почернело от загустевшей крови.
— И как не задело сердце, — шепотом говорит Зуйков. — Ведь через все тело прошла. И с левой же стороны…
Осторожно поддерживаем обмякшего, словно сразу отогревшегося в тепле лейтенанта, а Лина опутывает его грудь бинтами. Затягивает узелок. Начинает перевязывать поясницу. Ее руки, выпачканные в крови, мелькают у моего лица. Она действует быстро и ловко и без конца повторяет одно и то же:
— Потерпи, миленький… Все будет хорошо… Потерпи…
Редин не теряет сознания. Он молча смотрит на Лину, на ее лицо, руки. Он снова все понимает. Это ясно по его взгляду. Но на какие-то мгновенья зрачки его неожиданно расширяются и застывают в мучительном удивлении.
— Холодно, — хрипит лейтенант сквозь зубы, хотя в землянке душно от теплого воздуха.
— Потерпи, миленький, — тотчас откликается Лина. Она не говорит, а воркует. Ласково, нежно воркует почти на ухо Редину: — Сейчас тепло будет… Все будет хорошо… Немножечко, немножечко потерпи…
Лина успокаивает, как может. Но мы видим — она едва сдерживает слезы и не очень верит в свои слова. Да тут и не нужно быть медиком, чтобы понять, что значит такая рана.
Сооружаем мягкую постель из сложенного вчетверо брезента и парашюта. Укладываем лейтенанта на правый бок — так велела Лина. Накрываем шинелью. Он начинает бредить. То во весь голос, то едва слышно, бессвязно и отрывисто говорит о какой-то Шурочке… Наконец затихает. Дышит размеренно, спокойно.
— Может, уснет. Потише, ребята, — вполголоса просит Бубнов. Но в блиндаже и без его предупреждения тихо. Слышно, как падают на брезент песчинки. Лина наливает из чайника кипяток. Вода оглушительно громко плещется о жестяные стенки кружки.
— Наверное, остыл, — шепчет Зуйков. — Давайте я подогрею, а то холодный.
— Пить! Пить! Пить… — стонет Редин. Видимо, он слышит и понимает наш разговор. Лина кладет руку на его лоб.
— Немножечко потерпи… Принесут воды — напоим. Обязательно напоим… — И, повернувшись к Бубнову, предупреждает шепотом:
— Ни в коем случае не давайте. Ни капли.
Она забирается на нары. Пододвигает под голову вещмешок.
— Отдохну немножко. Если усну, — кивает на лейтенанта, — будите меня сразу.
Лина ложится и засыпает, едва успев прикоснуться щекой к мешку. Сон у нее не женский — крепкий. Ее не будит даже громкий крик Редина, который начинает метаться в бреду:
— Жить хочу!.. Жить хочу!..
Он говорит с трудом, то и дело срываясь на хрип:
— Бейте их, гадов!.. Шура! Ты здесь, Шурочка?.. Холодно!..
Лейтенант отрывисто и надрывно кашляет. В горле у него хрипит и булькает. На губах появляется красноватая пена.
Умирает он тихо. Как будто засыпает от усталости. Закрывает глаза и затихает.
Мы накрываем его тело свободным концом брезента. Сапер тормошит Лину. Зачем? Торопливо выхожу из землянки, чтобы не видеть, как она плачет. На свежем воздухе дышится легче. И в то же время труднее: что-то сдавило горло, будто сжало его чем-то со всех сторон…
![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](/uploads/posts/books/210499/210499.jpg)