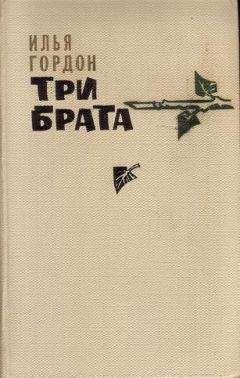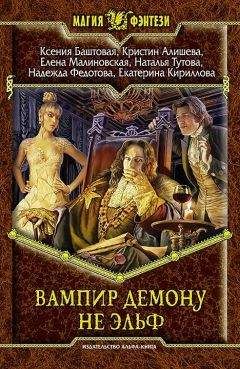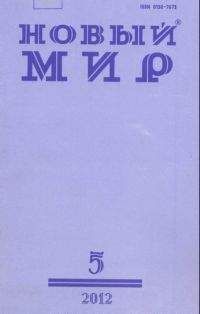Михаило Лалич - Избранное
— Точно, точно, известь! — кричит Бабич. — Подхватят граблями — и в яму, где гасят известь!
От шоссе вьется дорожка к оврагам. Один за другим мы спускаемся с шоссе и неотрывно смотрим вниз. Стража там какая-то чудная: кроме немцев в форме, суетятся мусульмане или албанцы с длинноствольными ружьями, в грязных шальварах, у одних на головах белые фески, у других — поверх фесок намотаны тряпки. Так выглядели убийцы моего отца — история повторяется, — только эти сейчас и меня… Двое или трое рыщут около построившихся, видно, наслаждаются тем, что похожи на волков. Выводят одного из строя, велят снять ботинки. Он медлит, колеблется, наконец снимает. Ему взамен дают резиновые опанки [14], стражник приседает, кладет на колени ружье и обувается.
— Уже грабят, — говорит Видо, — терпенья не хватает капельку подождать.
— У нас они не поживятся, — бросает Шумич.
— Как не поживятся? — усмехается Грандо, — а Дакино одеяльце!
— Пускай берут, так и быть, осчастливлю их! — говорит Дако и бормочет проклятья.
Я смотрю на свою куртку из толстого сукна — возьмут ее! Она скроена не по мне, шили ее для Шкоро, несуженого четнического воеводы [15]. Когда его убили, пули продырявили сукно в нескольких местах. Аня их заштопала. И вот сейчас будущему хозяину придется опять штопать. Но этим, вероятно, не кончится — сукно крепкое, а человеческая жизнь короткая — бог знает, кто ее доносит?
Подошли мы. Один из тех, что в чалме, посматривает на нас исподлобья, хмурит брови.
Видо смотрит на его ноги и говорит:
— Это они с четников снимают ботинки… И отлично, братцы, пускай снимают!
— Видели мы, у кого их снимают, — возражает Черный, — вон с тех несчастных!
— Какие там несчастные? Лавочники это да бородачи-четники! Нечего их жалеть, они при первой возможности нас выдают.
— Почему думаешь, что четники?
— Погляди на их итальянские ботинки. Такие только они получали.
Подойдя поближе, мы убеждаемся в этом: рычат, вопят, отгоняют нас, требуют, чтобы стали подальше, не желают в одну могилу… Восстали и против могильщиков, не позволяют им подойти и объясниться, кто они и как к нам попали. Разгорается перебранка, сыплются с обеих сторон угрозы, ругань, крик нарастает до самого неба. Фесочники, прихрамывая в тесных башмаках, сбежались, окружили, пытаются понять, почему заполыхала свара? Немцы стоят равнодушно, они знают, это понять нельзя.
Когда перепалка достигла высшей точки, вмешались наконец и фесочники, им тоже, видно, захотелось прочистить горло. Один, с огненными усами, повернулся к четникам и, заглушая всех, заорал:
— Кличете беду, а не видите, что она у вас за спиной! Своих ненавидите и гоните только потому, что не такие, как вы. И слава аллаху, что не такие: не жаждут человеческой крови, не тешат себя тем, что бросают в огонь малых детей! Когда б мы знали, как вы их ненавидите, приготовили бы им угощение… Если вы так ненавидите своих братьев, своих детей, чего можно от вас ждать? Коли вы такие к своим, то что бы вытворяли, если б могли, с чужими? Опять бы, как в Бихоре, распевали: «Вместо дров и чурок горят головы турок»?
Он спрашивает, но никто не отвечает. Наступает тишина. Могильщики, воспользовавшись этим, успевают связаться со своими и к ним пристроиться.
Среди тишины я слышу, как кто-то окликает Видо Ясикича, потом спокойно с ним разговаривает. Голос мне знаком, он напоминает мне о восстании — кривая беранская улица, вся в дыму от стрельбы, крики и суматоха и запах керосина. Мы бежим по этой улице с Вуйо Дренковичем и тащим два бидона керосина из магазина Бранко Пановича. Хозяин дал их нам, чтобы поджечь ворота казармы чернорубашечников. Бежим, спотыкаемся, вокруг щелкают пули, а Вуйо говорит: «Нехорошо тут погибнуть, найдут нас с этими бидонами и скажут: «Пришли грабить и получили свое!»
— Ты ли это, Нико Сайков? — спрашивает он так же спокойно. — Повернись, погляжу на тебя, давно мы не виделись!
— Здесь я, чего тебе надо? — говорю я сухо и поворачиваюсь к нему.
— Что такой сердитый, нет табака?
— Есть у меня и табак, и все что нужно!
— Знаю, что есть, но возьми и это. Держи!
— Не надо, неохота курить.
Шумич сердито наступает мне на ногу, шепчет:
— Бери, чего кобенишься!
— Не дури, — поддерживает его Вуйо. — Что прошло, быльем поросло, связаны одной веревочкой, или, если хочешь, сидим в одной кастрюле.
Дренкович бросает мне пачку сигарет. Шумич перехватывает ее на лету. Делим пополам, закуриваем. Даже слеза прошибла. Нахлынула сладкая истома, хмельной дурман. Что-то непонятное поднимает нас из грязи унижений и словно бы возвращает достоинство. Добрый аромат памяти, приглушенный голубым туманом забвения, — уже почти жизнь! Мы так хотим еще забыться, так хотим сладких грез! И мы покупаем их у четников. Даем по десяти лир за сигарету, по двадцати лир, потому что деньги для нас уже потеряли всякую цену. Казалось, эта торговля помирит одних с другими — хотя бы на то время, пока есть деньги, — но сверху непрестанно прибывают новые толпы, и возникают новые ссоры.
В мраке и беде угасает даже ненависть
I
Нас поджидают грузовики, ушедшие вперед с четниками и крестьянами. Мы вливаемся в длинную, плотную колонну, которая, ревя моторами, поднимается к Чакору, в сторону Великой, и оказываемся где-то посередине. Но уже не все вместе. Первыми удрали могильщики, спасая головы. Потом куда-то исчезли Бистричанин и Влахо Усач в надежде, что им улыбнется счастье, если отобьются от нашей стаи. Некоторые из немцев пересели в передний грузовик, а на их место пришли другие. Мы так перемешаны, что остается гадать, наступит ли облегчение или наши злоключения, как зараза, перекинутся на других? По всем признакам, случится последнее. Некоторые наши спутники, сообразив наконец, в какую компанию попали, перешептываются, ужасаются и смотрят на нас испуганно. Их утешает высокий усач, тот, которого бросили к нам в грузовик вместо Борачича. Мы прозвали его «Кумом», потому что его сняли с дома кума, он и вправду похож на кума с чудинкой, который знает все, что было и что будет, а вот собственную шкуру сохранить не смог.
— Надо шевелить мозгами! — кричит Кум.
— Поздно спохватился, — замечает Грандо.
— Лучше поздно, чем никогда! Думать всем миром!
— Не знаю, миром ли, не миром, — говорит крестьянин с загорелым лицом, — но одна погудка свербит у меня в ушах.
— Обмозговать сначала надо, — тянет Кум. — Квашня бродит, не ушла бы!
— Коли бродит, скажи: что вокруг нас делается?
— Могу вкратце: бог богоначалит.
— Э-э-э! Выходит, его рук дело? А как?
— Лет сто с лишним тому назад, — начинает Кум, — впрочем, еще нету ста лет, чуть поменьше, Милован Раичев погнал по весне пастись овец на Еловицу. Трава высокая, пасутся овцы, резвятся ягнята, красота, и только, вдруг как поднялся ветер, нагнал тучи, повалил снег, закрутила метель. Спрашивает Милован свою хозяйку: «Что это, Симона?» — а жена отвечает: «Бог богоначалит, Милован!» Тогда Милован поднял к небу голову и говорит: «Твоя воля, но ежели и дальше будешь так богоначалить, погоню я овец на Трепчу, а ты уж сам по Еловице блей!..»
— Крепко отмочил! — замечает Шумич.
— Спасибо за рассказ, — говорит Грандо.
— Не рассказ это ради рассказа, — возражает Кум.
— Сидит в нем и нечто иное, — соглашается Шайо, — и глубоко!
— Как для кого, — подхватывает Кум. — Думка у меня такая: когда немец вот так богоначалит и точно граблями сгребает всех нас в яму за проволоку, пятую, десятую или сотую, подготовленную для чехов, греков, сербов, коммунистов, поляков, французов, националистов, голландцев, русских, норвежцев, евреев и прочих народностей, ему придется потом загрести туда же венгров, румын, итальянцев, болгар, которые не хотят больше воевать. И вот тогда не найдется ли кто-нибудь, чтобы хватил его по черепушке, эдак по-русски, как там под Сталинградом…
Ждем, наконец Шайо спрашивает:
— И что будет тогда?
— Нехорошо будет, — говорит Кум.
— Для кого нехорошо?
— Для немца нехорошо обернется. Придется ему самому блеять на этой великой планете и хватать за горло своих же немцев, сажать их за проволоку, вешать на столбах, ставить к стенке и делать все то, что привык вытворять с нами. А поскольку выполняет он все основательно и свирепо, то наверняка с ними быстро покончит.
— Мели Емеля, — вмешивается четник, — а нас-то до того — фьюить!
— Ну и пусть! — равнодушно отвечает Кум. — И до нас так было.
— Не знаю, что было до нас…
— Так я тебе все расскажу, времени нам не занимать стать. Наши отцы и деды, о которых мы хвастаем, что один, дескать, лучше другого, дай бог им царствие небесное, были не умнее нас. И откуда? Где могли чему научиться? Была у них одна забота — кого-то гонять: скотину, овец, лошадей, жену, младших братьев и собственных детей, и потому вся жизнь проходила у них в брани и крике. В тяжкую годину горевали, плакали, драли кору да мезгу с деревьев, ели лебеду — половина умирала, другая оставалась жить. Так и перебивались из года в год, хуже было при урожае, когда люди наедались ячменных лепешек, сыра да краденого мяса — взвесятся, передерутся… Один всегда окажется сильней, потому тот, кто послабей, бежит к туркам или там в Венецию. А потом приведет их и сам идет впереди, проторить дорогу, и стрелять начнет первым. Другой обороняется, пока хватает сил, а нет — бежит на Куциву гору, Майину, Мейеву, в Оманов дол или на Лелейскую гору бежит. Если побег удастся, пойдет о нем у народа молва, а у кровников злобное шипение, а то люди сложат о нем песню, что превозносит его до небес, даже имя переменит. Однако чаще всего он попадает в ловушку — то ли настигнут войска, то ли собьют с пути друзья, побратимы, женщины, деньги, — и тогда схватят его за космы, закуют и бросят в подземелье. Лес рубят — щепки летят, вместе с ним схватят и тех, кто был его врагом, как нас сейчас! Упрямых перебьют, а покорную голову меч не сечет — закуют в кандалы и поведут, точно медведя, через Печ и Косово к Скоплю и Битолю до Салоник и самого Царьграда, где всегда продавали наших невольников.