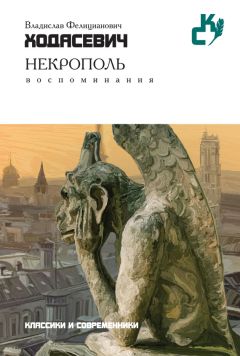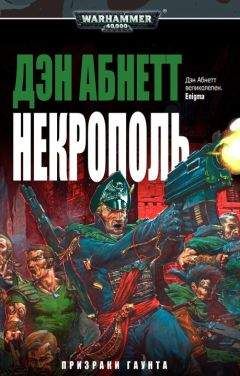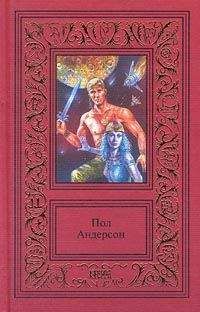Борис Пахор - Некрополь
И поэтому перенос и перетаскивание волоком нар из комнаты в комнату, поиск, а также и защита найденных соломенных тюфяков, перегораживание помещений на палаты для больных с флегмонами, дизентерией, водянкой, рожей, и, конечно, для костлявых мумий, которые неподвижно стояли в коридоре, безразличные ко всему, что их окружало. Ну а потом размещение тел, забота о том, чтобы расположить их продуманно. Ведь лежание, покой, неподвижность все еще были самыми эффективными средствами против заразы смерти. Даже в безнадежных случаях горизонтальное положение является единственной заменой лекарствам. И, наконец, лежание — еще и наиболее подходящее положение для мягкого скольжения в объятие пустоты, особенно потому, что из-за того, что соки высохли, мышцы и жилы стали похожи на вьющиеся стебли сухого ломоноса, по которым боль больше не проходит. И поэтому планомерное обустройство деревянных сотов в комнатах, которые за несколько часов стали продуманными клетками в дикой мешанине, почти как герметичные сундуки на тонущем судне. Конечно, эти островки порядка в море анархии были прежде всего и исключительно оазисами покоя; потому что в других случаях снова господствовала диалектика потребностей и свободных рук. И при этом дело было не только в еде, хотя некоторые больные на нарах поворачивали за мной глаза, как птенцы клювы, особенно те, что с рожей, которые и вправду были похожи на слепых птенцов, у которых на глазах висели похожие на колбаски тугие пузыри. Дело было не только в том, как справиться с голодом, но и в нехватке обычных медицинских принадлежностей, без которых нельзя было думать о больничных процедурах. Поскольку, помимо бумажных бинтов, спирта и риванола, в нашем распоряжении имелись только большие ампулы виноградного сахара. Кто знает, для чего завезли столько раствора виноградного сахара в эсэсовскую амбулаторию в Харцунгене. Ну, и у нас еще были какие-то ампулы корамина, но при роже и дизентерии корамин никак не поможет. И градусники. Градусники сами по себе создавали больничную атмосферу и сплетали между спешно обустроенными нарами и санитаром невидимую паутину тишины и единения до тех пор, пока в окна не начал проникать мрак. Но к тому времени уже все было окончательно расставлено, даже первые два тела уже были положены перпендикулярно стене здания. Они лежали вдоль стены, и когда я выглянул из окна своей комнаты, они были подо мной, и я подумал, что в конце своей одиссеи они заслужили хотя бы того, что их кости укрывает полосатая мешковина и их пергаментная кожа наверняка не скорчится в огне, а кто-нибудь предаст их завтра земле. Да, к ночи все было обустроено и все размещены, так что, за исключением стонов и просьб, в здании царили порядок и покой, чего нельзя было сказать о других помещениях, из которых, поскольку они стояли в отдалении, доносились неясные волны шума и глухого стука. Лишь ночь, если и не укротила, то во всяком случае уменьшила потасовки за нары и поиски несуществующей еды, оставив после себя атмосферу отдаленных раскатов грома в мире, где, казалось, столкнулись земля и небо. Невидимый горизонт сначала выгибался, а потом приобрел волнообразную форму приглушенных голосов и шепота. Вероятно, это были знамения приближающегося спасения. При свете дня он отдалился и приподнялся, так что казалось, будто гул землетрясения перенесся в другой, самый удаленный от нас край мира. Конечно, нас не отравили, но сомнение и страх все же довлели над нами, несмотря на многочисленные дела. Ведь мы были в Берген-Бельзене, и хотя сам лагерь находился где-то на периферии, но из-за него вся эта земля стала местом смерти, поэтому было бы странно, если бы она пощадила именно нас. А голодная толпа чувствовала близость конца и была разъярена, как раненый зверь. Несмотря на год противостояния уничтожению, наше сообщество тогда пережило первые случаи каннибальства. До тех пор уход из жизни происходил негласно, уничтожение было окутано тишиной. Теперь же не было ни бараков, ни распорядка, ни скупых пайков пищи, из-за которых упадок жизненных сил происходил незаметно, сейчас тишину последнего отлива нарушал шум бурного волнения моря.
Таким было то утро, когда вопреки запрету, обозначенному знаком «череп со скрещенными костями» (к чему такой запрет?), кучка людей искала воду в каменном ангаре прямо напротив нашего здания больницы. Я заметил их, когда подошел к окну, чтобы посмотреть, насколько длинным стал ряд тех, кто лежал внизу вдоль стены. Два парня как раз вошли внутрь приземистого здания, в то время, как другие разбежались, завидев охранника, показавшегося из-за угла. Это был молодой парень, черноглазый, с продолговатым лицом, тощий как жердь, в эсэсовской униформе. Он ничего не сказал, не крикнул, только вполголоса выругался, когда передернул затвор и выстрелил в того, кто первый вышел с кружкой в руке. Тело пошатнулось, осело и повалилось в лужицу воды, выплеснувшейся из кружки, когда она стукнулась о землю. Потом эсэсовец выстрелил опять и не спеша оттянул и передернул затвор, и как бы подтрунивал над собой, когда медленно сдвигал его вниз. Потом выстрелил в того, кто выронил кружку и из-за простреленной ноги скакал на одной правой ноге. Молодой смеялся над прыжками и снова не торопясь мягко спустил курок, но тогда уже невозможно было увидеть, что случилось с убегавшим, поскольку он скрылся за углом. Судя по ухмылке, с которой эсэсовец повесил винтовку на плечо, можно было представить себе и то, и другое. Поскольку он все время как-то по-дурацки радовался, можно было подумать, что он был бы доволен даже в том случае, если прыгун ушел от него. Когда он начал громко ругаться возле тела, неподвижно лежавшего в лужице воды рядом с перевернутой кружкой, из его слов мне стало ясно, что молодой эсэсовец на самом деле хорватский усташ[26]. Но более удивительной, чем потрясение от этого факта, чем ощущение внутренней опустошенности при звуке братских славянских слов в таких обстоятельствах, в тот момент была дерзость моих товарищей в полосатых куртках. И та истина, что сопротивление все еще живо, когда казалось, что оно уже давно умерло, эта истина, несмотря на тяжелое положение, стала для меня решающим доказательством того, что миру крематория конец. И, может быть, именно из-за осознания этой невероятной истины благоразумие балканского охранника разлилось как вода из кружки у его ботинок.
Ну что ж, а человеку нужно было заняться делами, мысли и чувства — одно, а работа — другое дело. У меня действительно было чем заняться, поскольку откуда-то принесли таблетки сульфамидов. Кто знает, где и как их стащили беспокойные руки. Наверняка в какой-нибудь ветеринарной клинике, поскольку они были большими, как дно стакана, и их нужно было разделить на четыре части, но и такие больной проглатывал с трудом. Отчасти, конечно, потому, что они приобрели треугольную форму, но даже, если их размельчишь, не факт, что больному с розовыми улитками на глазах легче проглотить порошок, чем треугольный кусочек. Но это было неважно, я был доволен, что у меня есть сульфамид, потому что благодаря ему процедуры для больных продолжались, да и я был при деле, и я был благодарен лошадям за то, что они обошлись без сульфатиазола, либо пожертвовав собой ради великого рейха, либо бесцельно бродя по холмам. Конечно, было под вопросом, насколько лучше станет от этого вытянутым телам, ведь сульфамид вовсе не питательное вещество для обезвоженной протоплазмы. Внизу у стены росло количество трупов, а наше здание уже было слишком мало для всех больных, хотя мы заполнили телами и чердачное помещение.
Я пошел на чердак, не знаю, почему. Может быть, из-за желания найти еще кого-нибудь с рожей или дизентерией, может быть, для того, чтобы с помощью чего-то нового покончить с атмосферой пустоты и нерешительности, но, скорее всего, просто из потребности обойти место своего заточения, которую чувствует заключенный. Это был не тот чердак, где хранятся всевозможные тайны, мешанина предметов, столь же старых, что и покрывавшая их паутина. Там были только огромные и тяжелые балки, поднимавшиеся от пола до потолка. Люди в полосатых робах лежали на полу под мощными косыми балками как попало, прижатые друг к другу, так что полосы скомканной одежды казались кривыми линиями разбрызганных мозгов. А голоса в мешанине тряпок и полос — вялые пузырьки, поднявшиеся из жидкой грязи разлагающейся материи. Чердачное окно было открыто. Холодный воздух, поступавший через него, разрежал густые пласты миазмов, а люди, чтобы укрыться от сквозняка, из последних сил отползали подальше, располагаясь полукругом в нише окна. Только одно тело осталось лежать прямо под окном, одинокое в колком воздухе, словно отринутое от тверди берега людей и дрейфующее среди моря небытия, недвижимое, растянутое и худое. И, возможно, больше, чем побуждение оттащить его куда-нибудь в укрытие, подальше от открытого окна, где его положил желавший от него поскорее избавиться носильщик, меня привлекла форма вытянувшихся конечностей, особенность их положения. Потому что тело не меняет своих характерных черт, ни тогда, когда перестает держаться прямо, ни тогда, когда плоть больше не формирует его изгибов и выпуклостей. Угловатый череп, положенный на деревянную подставку, казался мне знакомым и, несмотря на выступающие скулы, он все еще был головой молодого пастуха, который тебе, горожанину, вырезал свистки из орехового дерева на Шпиларьевом лугу, или обритой головой двоюродного брата, которого увез эсэсовец, говоря, что его выпустят, но потом о нем не было ни слуху ни духу. Действительно, я подумал и еще о чьей-то голове, пока меня не осенило, что эта, бритая, Иванчека. А потом я увидел его ясные живые глаза, искавшие меня. В них, как всегда в последние минуты жизни, собралась вся остававшаяся в теле влага, и их блеск был признаком уходящего света, но однако еще оставалась в них застенчивость мальчишки, которому детские приключенческие истории подменили непонятными картинами конвейера смерти. И в то время, как его зрачки пристально смотрели на меня, словно не только пытаясь освободиться от тисков страха, но и стремясь передать мне весь неосознанный, рвущийся из глубины его физического существа, гнев, я снова видел его молящую и добрую улыбку, с которой он уезжал из Харцунгена. Все, кто еще был в состоянии двигаться, должны были пешком идти на железнодорожную станцию при поспешном бегстве фашистов из клещей восточного и западного фронтов. Именно тогда неизвестно каким путем дошла до Иванчека посылка из словенской деревни. «Настоящие золотистые сухарики», — говорил он и держал пакет на руках, как молодая, еще неловкая мать новорожденного. Как будто родным удалось как раз вовремя прийти на помощь сыночку в другой мир, туда, где живые люди стали уже неосязаемыми тенями. И с этим откровением, сиявшим из его глаз, он пришел ко мне, вероятно, потому, что я давал ему жестянки баланды, остававшейся после умерших, за то, что он носил из туннелей дрова для печи. Он прятал деревяшки на груди, чтобы охрана их не заметила. Но в тот день он набил рубашку сухарями и крепко перевязал в поясе тряпичную куртку, так что застиранные серо-синие полосы округлились, словно у него на груди появился горб. Он прощался и надеялся на что-то, но эта надежда то и дело сменялась сомнением, появлявшимся в скромных, детских глазах; он снова и снова поглаживал свой бесформенный горб, словно убеждаясь в сохранности свертка, как бы осознавая святость съестных припасов, посланных ему родной землей перед дорогой долгого и последнего испытания.