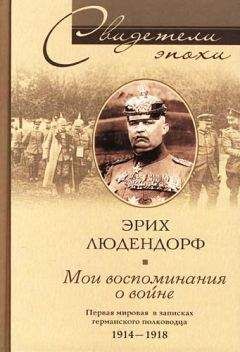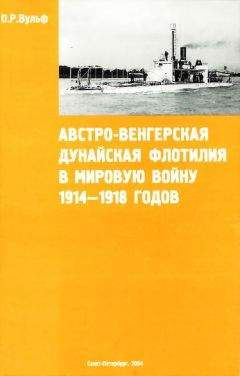Владимир Рыбаков. - Афганцы.
Сторонков сильнее повертел шеей, спрятал глаза:
— Хорошо говоришь. Уверен, что искренне. Но я не привык верить офицеру в армии, преподавателю в институте, начальнику цеха на заводе. Так что не обижайся, дело не в тебе… Мы можем стать настоящими боевыми товарищами, но вот друзьями — навряд ли.
Нет, Борисов не обижался…
«Но странно все-таки, что мне вообще захотелось, чтобы Сторонков стал моим другом. Оттого, что вместе уже воевали, будем воевать, на смерть глядеть и смерть раздавать? Но какая может быть между нами дружба, когда я его, в общем, не понимаю. Размяк я сегодня, только и всего. Пора к Лиде. Ждет».
Он сказал весело:
— Договорились. Я ведь не напрашиваюсь. Я тебе даже вот что скажу: меньше всех наших ребят тебя понимаю. Все намеками какими-то говоришь, непонятно, куда ребят ведешь своими разговорами, самим своим поведением. Не могу понять, что тебе на самом деле нужно. И Тангры тоже не понимаю. Но он хоть молчит все время.
— А что Тангры?
— Мне разное говорили о наших нацменах. Будто воевать не хотят с афганскими таджиками, узбеками, туркменами. Тема щекотливая, сам понимаешь. Тут тебе вопрос национальный, тут тебе религиозный, а вместе получается — политический. А Тангры молчит. Как будто можно на него положиться, это я видел, но хотелось бы быть уверенным. Дело не только в нем… вы скоро дембельнетесь, а мне дальше служить, дальше воевать.
Сторонков усмехнулся, достал из-под койки ведро с водой, из ведра бутылку водки и два стакана:
— Вопрос интересный. Я заметил, что ты поглядывал искоса на Тангры. Тут без полбанки не разберешься. Выпьем?
— Я уже свою дозу получил. То ли сухой, то ли полусухой закон, а все глушат себе. Ну да что там… Ладно уж, наливай.
— Нет, со спиртным не просто. Ты — в привилегированном положении: только прибыл, только первый бой — вот и наливают. И к нам попал — тоже повезло. А посмотри внимательно вокруг — люди без спиртного наркоманами становятся. И не одиночки, а — пачками. Готовы на все ради «косяка», ради «прихода». Мы одного дружка Тангры пытались спасти, он уже камнями себя по телу бил, чтоб меньшею болью большую отогнать, ту, что в костях. Что, не знаешь? Опиум дает костям фосфор, а как в жизни бывает: если кто тебе бесплатно кушать дает, будешь работать ради питания? Так и наш организм: раз опиум дает фосфор, так и незачем его производить. А как только наркоман бросает шабить или колоться, или, что чаще всего, не может свою порцию добыть, так все и начинается: кости требуют фосфор, организму нужно много времени, чтобы снова перестроиться и начать вновь выдавать его костям. Боль такая, что часто с жизнью расстаться, лишь бы избавиться от нее, — самое, понимаешь, желанное. Пока мы доставали для дружка Тангры опиум, тот успел дуло автомата в рот себе засунуть да и нажать. Так что, лейтенант, спиртное в Афганистане нужно уважать больше, чем на родине… Но ты о другом спрашивал. О наших нацменах. Плохо тебя и по этому вопросу информировали. Есть, конечно, нацмены, не желающие стрелять в своих единоплеменников, другие — в единоверцев, третьи — в тех и в других, но это — единицы, чаще всего нацмены служат нормально и воюют нормально. Как Тангры. Ну, что общего между афганским и нашим туркменом? Что они туркмены? Чистая абстракция. Вот ты, стал бы воевать с русскими, эмигрировавшими в США века два назад и воюющими против тебя в рядах американской армии? Но есть все-таки среди наших нацменов гнусная прослойка, ущербная, так сказать. Эти нацмены презирают афганцев: дикари, мол, звери, патефона от вольтметра отличить не могут, телефон — от велосипеда. А себя считают, видишь ли, цивилизованными — и из кожи вон лезут, чтобы это доказать. Боятся, как бы мы не подумали, что они жалеют афганцев, понимают их, спасают. В этом и ущербность: как бы кацап не подумал, что мы того, снюхались с духами, что мы сами духами стали. И, знаешь, даже мысль о том, что мы можем так думать, приводит их в ярость. Нас ненавидят, но афганцев начинают ненавидеть еще больше — хотя бы потому, что на нас не отыграешься, а на афганцах сколько угодно. И знаешь, как они доказывают свою цивилизованность? Зверствами. Кончают всех подряд без всякой причины. Меня это, конечно, не касается, мало ли что на войне делается. Но такого нацмена я при себе иметь не хотел бы. Либо перевоспитал, либо кончил. Такой всю группу подвести под монастырь может — ему доказать свою цивилизованность зверством важнее, чем выполнить приказ и остаться в живых. Так что, лейтенант, таких остерегайся. А если увидишь, что нацмен в своих не очень охотно палит не по трусости, так он парень, наверное, хороший, просто нужно ему другую работу дать, только и всего… хочешь посошок? Да, а Тангры самый что ни есть нормальный парень. И воюет отлично. Так-то, господин лейтенант, на таких русская армия стояла и стоять будет.
Борисова раздражал поучительный тон сержанта, но возникшее чувство дружбы к нему не ушло.
…Официантка уступила Борисову место на койке, как это сделала бы жена после десятка лет супружеской жизни. Любила она его без страсти, но с такой нежностью, что он опешил. Всем ее телом правили глубокая доброта и жалость. Проснувшись под утро от ее ласкового прикосновения, Борисов почувствовал острую благодарность. Ночью она сказала, мягко удерживая его прыть:
— Спокойно. Не надо торопиться, ни в постели, ни на войне.
А под утро, глядя, как он одевается:
— Вот, еще один мальчишка на мою голову. Чего ты засуетился, ничего мне не нужно. А если действительно захочешь от души мне подарок сделать, то ты спроси, а я тебе отвечу. Но не теперь. В Кабул поедешь, вот тогда и скажу, что привезти. Но лучший для меня подарок, если ты, пацаненок, вернешься целым, тьфу-тьфу. Иди.
Тишину базы нарушал рев вертолетов. Борисов, чувствуя себя легко, сильно, упруго, вздохнул глубоко еще прохладный воздух, улыбнулся: вот такой и должна быть война.
V
Во время нападения на кишлак Борисов всё повторял про себя: «Так, гранату в окно, вышибить дверь и веером от пуза». Ни партизан, ни оружия в кишлаке не нашли. Группа Бодрюка все же обнаружила в шалашике под абрикосовым деревом раненного афганца. Борисов посмотрел вопросительно на Бодрюка. Тот пожал плечами:
— Рана огнестрельная, почти зажила. Может, враг, может, нет. Ну его к черту!
Борисов кивнул головой — убивать безоружного белобородого раненого претило. Главное, Борисов искренне считал — операция завершилась; боевое безумие поостыло, превратилось в усталость…
Они отвернулись от раненого, чтобы увидеть подходившего к ним в окружении автоматчиков подполковника Звонаря, замполита полка. Бодрюк гримасой, смешно поджал губы, скосил сузившиеся глаза, мол, ничего не поделаешь, и, вновь повернувшись к молчавшему старику, всадил в него очередь.
Звонарь был недоволен:
— В чем дело?
— Душман. Был ранен.
— Так. Не нашли, значит, оружия. Плохо, плохо. Но душманы в этом кишлаке были. Кто-то ведь по нам выстрелил… а этот вот не ушел. Потерь нет? Это хорошо. Что, вспотели, братцы? А какие потери у противника?
Бодрюк рявкнул:
— Еще не подсчитали, товарищ подполковник! Вон идет гвардии сержант Сторонков, ему, возможно, уже доложили.
— Сторонков!
— Да?
— Потери противника тебе известны?
— Какого противника?
— Не дури! Сколько?
— Уже подсчитали: тридцать шесть трупов. Из них женских и детских…
Замполит Звонарь крикнул сердито, но в его голосе не было ни угрозы ни исступления:
— Хватит, Сторонков. Не заходи слишком далеко. А вам, товарищ старший лейтенант, следовало бы лучше заботиться о моральном облике своих подчиненных. Ладно, поехали.
Через три дня во втором кишлаке также не нашли оружия, но обнаружили большие запасы продовольствия. Жители клялись Аллахом, что продовольствие — только для них самих, просили не обрекать кишлак на голодную смерть. Подполковник Звонарь остался в штабе. Но был с двумя другими группами капитан Саркян, поэтому, хотя приказ был ясен, Борисов решил подождать, пока закончится обыск всего кишлака. К нему подошел Стороков:
— Нет тут оружия. А свое личное они, должно быть, хорошо спрятали. А продовольствия тут много. Начинать?
— Надо подождать Саркяна.
— Зачем? И так все ясно. Все равно ведь надо сжечь. Один склад нашли в полом дувале. Тангры нашел, у него нюх. Зачем ждать? Чем быстрее дело сделаем, тем быстрее и смотаемся отсюда.
Борисов махнул рукой:
— Давай.
Вопли женщин и плач детей действовали на нервы. Напряжение росло. Борисов ждал выстрелов… дождался собак, огромных черных афганских псов. При вступлении в кишлак пристрелили пять или шесть собак. Сторонков сказал:
— Их не кормят. Хорошие сторожа, а вместе с тем — похлеще волков. Что-то мало мы их кончили. Где остальные?
Бросилось на них не меньше пятнадцати собак. Борисов оцепенел, настолько неожиданным оказалось для него нападение. Его спас отец Анатолий, успел дать очередь — пес, пораженный несколькими пулями в спину, все же успел последним судорожным движением челюстей, упав на Борисова, разодрать ему слегка плечо и лапой сильно поцарапать лоб. Прибежал Саркян: