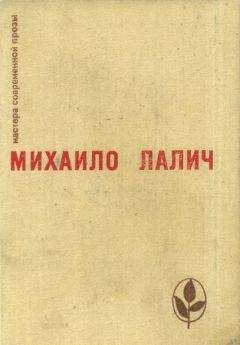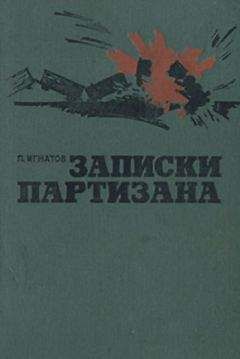Михаило Лалич - Облава
Он проснулся совсем и в полной тишине с нетерпением стал ждать повторного зова. Сразу вспомнилась дождливая осенняя ночь на Лелейской горе, когда вдруг из сожженного леса сквозь туман и дождь раздался зов Неды и Якша его разбудил, чтобы он отозвался. Порывисто приподнявшись, Ладо сквозь щель в дверях посмотрел на заснеженный простор. «Это только воспоминание, — подумал он. — Послышалось или приснилось. Если бы она в самом деле звала, услышали бы и другие. Во всяком случае, часовой или тот, что подкладывал дрова в печку. Вот дурак, как она может меня звать! И Неда не такая дура, чтобы сейчас меня разыскивать. А если все же дура, так кто мог ей сказать, что я здесь, и как могла она догадаться прийти именно сюда, где меня не должно было быть?..»
Ладо сидел какое-то время, отдыхая от сна и стараясь позабыть его. В печке горели дрова, партизаны шумно дышали, чесались во сне. «Не надо больше думать о Неде, — приказал он самому себе, — тошно становится, точно сироту обокрал. Впрочем, так и получилось: полюбил, как волк овцу любит, и бросил истерзанную. Послал жить в тот злосчастный дом к Иве, но это же увертка! То, что сказал мне тот ведьмак, которого я убил, будто она жила с Велько, была ложь, я знал, что ложь, и нарочно поверил, чтобы оправдать себя, что охладел к ней. Мужчина всегда охладевает после того, как совершит что-нибудь серьезное — убьет человека или сделает его. Теперь кайся не кайся — ничего не поправишь. Не жила она с Велько — нет, нет, нет! А если и жила, то это было давно, было и быльем поросло».
«Не стану больше о ней думать, — повторил он. — Сейчас мне ближе вот эти, что рядом со мной. Храпят, чешутся, а ведь на самом деле они герои нашего времени. Если все принять во внимание, они ничуть не хуже героев прошлых времен. Даже самоотверженней. Прежние герои, начиная с вавилонских богов Мардука и Аншара, находились под защитой высших сил, по своей природе были могущественнее своих противников и вполне сознавали свое превосходство. Одни с головы до пят были одеты в броню; другие, одержимые любовью или ослепленные страстью, не видели для себя иного пути. Оно конечно, и нам отступать некуда, и у нас нет выбора, и мы не можем иначе, но встали мы на этот путь сами. Любовь к правде привела нас к нему — ее мы предпочли всему прочему, она стала делом нашей жизни! Мы и тогда знали, что мы слабее злых сил, знали, что на нас нет брони, что мы беззащитны, лишены всякой божьей протекции, и все-таки мы решили пожертвовать собой, отдать свою жизнь в борьбе с вечно голодной Тиамат… Здесь уж Злая Судьба ни при чем. И когда мы веселы, на первый взгляд — беспричинно, то это похоже на веселье зеленеющих дубов, которые знают, что, даже срубленные, они корнями своими дадут жизнь молодым, себе подобным. Те, что по другую сторону баррикад, смеялись бы надо мной, если бы узнали, о чем я сейчас думаю. И будут смеяться, когда мы падем, но это ничего. Зерно, которое, умирая, дает жизнь колосу, гораздо счастливее того, которое томится в амбаре. И прежде выпадали черные годины, когда ничтожные иуды смеялись над героями, поносили их, топтали их мертвые тела, мочились на их могилы, но ничего. Туман иногда совсем затягивает вершины гор, начисто скрывает их, проглатывает, но все равно — мы снова появимся, как зеленые дубы, что выныривают из тумана и снегов».
ТОЛЬКО ВО СНЕ СДАЛОСЯ, БУДТО НА СВЕТЕ ЖИЛОСЯ
На берегу Поман-воды в землянке спят четверо. Пятый, Видо, по прозванию Паромщик, стоит на часах и думает о своих: мать больна, сестра запугана до смерти, топить им нечем, всю ночь зубами лязгают и глаз не смыкают от холода. Наверно, и не ужинали — нечем. Паром у берега привязан, чиркает о песок, вздрагивает и скрипит — это все их добро, и корова их, и нива. Горький удой, нищая жатва, проклятое добро! Того, что выколачивали на перевозе, не хватало на хлеб и в лучшие времена. Выручала поденщина, инвалидная пенсия покойного отца, рыба, которую ловил Видо, займы, унижавшие, как милостыня. Сейчас ничего этого нет. Ездят мало, только те, кто может получить пропуск; целыми днями никто не приходит, а кто приходит — не платит. Груячичи не платят, другие четники тоже — лучше проиграть в карты, чем платить презренным беднякам. Пусть чувствуют, что такое настоящая власть! Так они наказывают мать, у которой сын коммунист, и сестру, у которой брат коммунист, да еще выругают, чтоб знали, что они не хотят платить не потому, что денег жалко, а потому, что ненавидят их и мстят им.
И все-таки мать и сестра еще как-то живут — ходят, как всегда, босые, в жалком тряпье, сверкая голыми локтями и коленями. Чем живут, бог знает — водой, терпением, упрямством, но дымок над хижиной в ивняке все еще вьется. Топят сырой вербой. Он видел дым с горы и диву давался, когда проходил там поздней осенью, в тот день, когда на Побрдже погиб Якша, а через двое суток выпал первый снег. С тех пор он и не знает, как они. Может, дымок больше не вьется? Пожалуй, лучше бы он не вился, лучше бы больше не гореть огню в этом горемычном очаге между голодным Лимом и еще более голодным селом. Чего ждать, на что надеяться? Матери уже все равно не поправиться; сестра, если и выйдет замуж, то наверняка за пожилого вдовца с ребятами или за какого-нибудь голодранца-бедняка, у которого хижина, может, еще похуже той, что стоит в ивняке у парома.
Чтобы не думать об этом, Видо начал вспоминать, как в базарные дни крестьяне толпами валили к перевозу, как бросали мелкие монетки в шапку, лежавшую на дне лодки. Шапка была драная и монетки проваливались — потом он собирал их и чистил песком до блеска. Хороши были и те дни, когда кто-нибудь умирал и родственники, одетые в черное, ехали на похороны и потом возвращались с кладбища пьяные и наплакавшиеся. Обычно они расплачивались на обратном пути, и тогда никто не пытался проехаться на даровщинку. Самые же доходные дни были в мясоед, когда игрались свадьбы; тогда он даже собирал малую толику денег и уже подумывал о том, чтобы поправить хижину, купить сестре платье, завести клочок земли и кто знает еще что. Но случалось это редко — два-три раза в году, — только пробудятся мечты, и тут же следует кара за то, что осмелился мечтать. Обычно люди женились в своих же селах или по соседству, на той же стороне реки, и Видо долгое время думал, что они это делают нарочно, чтобы не переправляться через Лим и не платить за перевоз.
У кумовьев в карманах были фляги, и они угощали всех подряд, и его в том числе, подсахаренной ракией, предлагая выпить за здоровье молодых. Видов дед, старый одноногий Гайо, опершись на шест, поджидал их у парома с непокрытой головой. Заткнув шапку за пояс, чтобы освободить руки, он пил, крестился и желал здоровья. Для него это был самый большой праздник и единственная возможность напиться. Потом дед заводил беседу о войнах, о пушках, которые они таскали на канатах по горам через перевалы и по таким кручам, где никто, кроме человека и дикой козы, пройти не мог. Стоило ему выпить, и воспоминания лились рекой, они сидели в нем мучительной отравой, от которой он должен был время от времени избавляться. Он рассказывал о том, как они ночевали в снегу на Богичевице; как дрейфуны, всякие там лавочники, булочники и жестянщики из Печи, бежали с фронта, накидывали на себя чадру и откупались золотыми дукатами, когда их ловили; как их встретили монахи в Дечанах, как Сав-Батара грабил албанцев, как дружил он тогда и делился последней коркой хлеба с отцом генерала Вешовича, ныне покойным Лукой Вешовичем, который так рано состарился… Но до Рабана, где немецкий снаряд оторвал ему ногу, дед Гайо никогда в своих рассказах не доходил. Его развозило, и он засыпал, а проснувшись на другое утро в дурном настроении, говорил:
— Что жизнь, что человек? Горе одно. Только во сне сдалося, будто на свете жилося.
Осенью на пароме переправлялись гимназисты — спрямляли себе путь в город. От них не было никакой корысти — перевозили их бесплатно. Подросли и ровесники Видо, почти сплошь Груячичи, двое Радетичей, Видрич, его потом убила молния, и Момо Магич, тот самый, что спит тут, между Байо Баничичем и Качаком. Видо нисколько не досадовал, что не ходит с ними в гимназию. Он считал естественным, вернее, считал бы неестественным, если бы в гимназию приняли сына паромщика, босого, в лохмотьях, который на досуге любит есть угли и пепел с очага. Завидовал он им в другом: они не одиноки, как он, не ходят босыми, головы их красиво подстрижены, и они носят чистые рубахи — прямо полубаре какие. Потом зависть перешла в ненависть. Одни насмехались над дедом, другие — над сестрой, и он гонялся за ними с камнями по ивнякам. С двумя-тремя он справлялся легко, и поэтому против него объединялись все молодые Груячичи. Собираясь сразу человек по десять, они устраивали на него облаву, брали в кольцо, и он с трудом, избитый и израненный, прорывался сквозь него. Наконец за сыновей вступились родители и пригрозили ему жандармами. Сила была на их стороне, только Момо Магич и двое Радетичей его поддерживали. Но Радетичи с ранней осени гостили у родственника, который жил на окраине города, а один Момо мало чем мог помочь.